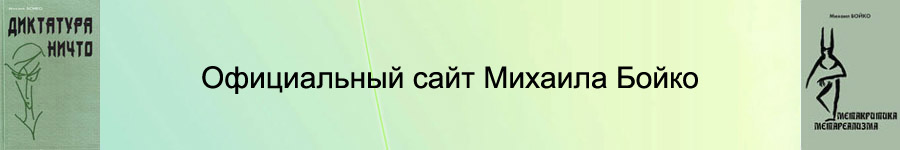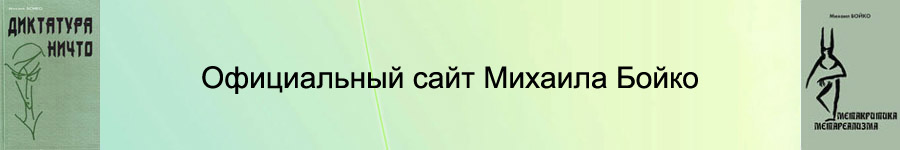|
Фото Максима Дубаева
|
Бойко Михаил Евгеньевич (р. 1979) – литературный критик, журналист, философ. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (2001). Работал инженером в Российском научно-исследовательском институте Космического приборостроения (2004–2005), редактором отдела публицистики еженедельника «Литературная Россия» (2006–2007). С 2007 года сотрудник «Независимой газеты», сначала обозреватель, а затем – заместитель ответственного редактора литературного приложения к «Независимой газете» «Ex Libris». Автор книги «Диктатура Ничто» (М.: Литературная Россия, 2007). Пресс-секретарь «Клуба метафизического реализма ЦДЛ». Член Союза писателей Москвы. Автор журнала «Литературная учеба».
– Михаил, не кажется ли тебе, что российская наука в твоем лице потеряла одаренного физика?
– Не думаю. Мои природные способности, действительно, лежат в области математики и естествознания: я раньше выучил таблицу умножения, чем научился читать, а к пятнадцати годам самостоятельно освоил дифференциальное и интегральное исчисление. Вообще багажа знаний, полученного в школе, мне хватило, чтобы закончить физфак с красным дипломом, при том что уже на первом курсе я потерял интерес к учебе и практически перестал посещать занятия.
Но мне кажется, что для успешной работы в современной науке мало иметь способности – требуется совпадение способностей и склонностей. В физике, например, требуется готовность всю жизнь обрабатывать крохотную делянку, вкладывать все ресурсы своей личности в решение какой-нибудь узкоспециальной проблемы. Скажем, всю жизнь заниматься движением доменных стенок в монокристаллических пленках феррит-гранатов – как мой научный руководитель. Чем выше специализация, тем больше результаты. Я на это не смог решиться.
Дело, по-видимому, в том, что у меня гуманитарные склонности. К занятиям физикой меня побудил, если можно так выразиться, натурфилософский интерес, поиск универсальной формулы. Я полагал, что современная физика – это что-то вроде ключа к мирозданию, путь к прояснению смысла жизни. Это звучит очень наивно и романтично, но руководствовался я именно этими соображениями. Я не могу заниматься какой-то частной проблемой, если при этом теряется образ целого и отсутствует экзистенциальная мотивация. Даже если бы после окончания университета я твердо решил посвятить себя физике, мне кажется, рано или поздно все равно бы свернул со стези чистой науки куда-нибудь в сторону – занялся бы философией естествознания или популяризацией современной науки. А может быть, примирением современной физики и древних метафизических доктрин в духе «Дао физики» Фритьофа Капры.
– Как же получилось, что ты стал литературным критиком?
– Я всегда завидовал античным и средневековым ученым, которых называли «полигисторами», то есть «многознающими». Это были люди, вмещавшие практически всю сумму знаний своего времени. Такая универсальность позволяла им делать открытия во всех науках, за которые они только брались. Вспомним Аристотеля, Альберта Великого, Роджера Бэкона. Последними полигисторами, на мой взгляд были Декарт и Лейбниц, «наследившие» во всех областях современного знания от математики и физики до антропологии и языкознания. Уже в XIX веке объем человеческого знания возрос до такой степени, что вместить его было не под силу даже гениям. Какое-то время еще находились ученые с потрясающей способностью к обобщению и систематизации, такие как Герберт Спенсер, Вильгельм Вундт и Эдуард фон Гартман. Но в XX веке эпоха великих философских систем закончилась. С тех пор гиперспециализация ничем не скомпенсирована и необратимо корежит, уродует, деформирует человеческую личность.
Литературная критика – это, пожалуй, одна из немногих областей деятельности, которая позволяет избежать травмирующей гиперспециализации. Вот только некоторые темы, которые я затрагивал в своих статьях в последнее время: «азиатский» способ производства, Кубинская революция, отношения Ивана Тургенева и Полины Виардо, альтернативная библеистика, феноменология власти, творчество Августа Стриндберга, метафизический реализм. Кстати, я, по-моему, единственный из современных российских литературных критиков, который одинаково часто пишет о художественных и научных книгах. Скажем, в собрании сочинений Дмитрия Писарева рецензии на Гончарова и Тургенева идут вперемежку с рецензиями на Конта и Молешотта. Мне это близко.
В то же время я не единственный выпускник физфака МГУ, подавшийся в литературу. Могу назвать и других. Это, например, писатель и сценарист Андрей Бычков, автор скандального романа «Дипендра». Литературный критик и писатель Владимир Березин, обозреватель «Книжного обозрения». Вообще же литераторов с естественнонаучным или техническим образованием очень много. По моим подсчетам, их примерно треть от общего количества.
– Но какое стечение обстоятельств привело тебя в литературную критику?
– Если говорить о непосредственном жизненном влиянии, то судьбоносным было знакомство с Алиной Витухновской. Пожалуй, это единственная личность, в которой мне ни разу не приходилось разочаровываться за десять лет общения. Она – единственный бесспорный случай сверходаренности, с которым мне приходилось сталкиваться. Но я не уверен, что масштаб этой личности и степень ее одаренности можно оценить по одним лишь текстам. Пожалуй, здесь придется сделать небольшое отступление.
По моему мнению, то, что мы считаем проявлением гениальности и относим к сфере прекрасного или эстетического, – это лишь надводная часть айсберга. Скажем, девушка изящно вплела в волосы ленту – это уже произведение искусства, которое просуществует всего несколько часов, пока она не распустит волосы. Продлить время существования этого произведения невозможно, потому что даже фотография не может передать очарование момента. И не факт, что девушке удастся когда-либо снова так удачно вплести эту ленту. Это ежечасно раздариваемое искусство, колоссальная эстетическая энергия, бескорыстно излучаемая в окружающее пространство. Так вот Алина Витухновская – это личность гениальная, на мой взгляд, во всем, но в первую очередь в самом образе жизни. Например, я захожу в ее комнату и вижу, как расставлены предметы на подоконнике. Гениально, но передать это невозможно. А тексты – этот всегда эпифеномен и не самый значимый. Я хорошо понимаю Мишеля Фуко, недоумевавшего, что в нашем обществе искусство соотносится только с объектами, а не с индивидами или с жизнью. А разве жизнь индивида не может быть произведением искусства? Совершенно с ним согласен.
При этом, конечно, тексты Витухновской – совершенно исключительное явление. Это поняли Андрей Вознесенский, Константин Кедров, Юнна Мориц, Инна Лиснянская и некоторые другие. Но список этот не столь уж велик. Для меня, например, невероятно, что можно считать поэтическим явлением заурядную и вторичную Веру Павлову, этот выращенный в лабораторных условиях поэтический гомункулус, и не признавать Витухновскую. По-видимому, дело все-таки не во вкусе, а в инерции восприятия. Впрочем, истинный масштаб поэзии Эдгара По, Бодлера, Лотреамона и других одаренных личностей современникам был далеко не очевиден.
– А, может быть, все дело в скандальном имидже Витухновской?
– А кто сказал, что поэт должен быть личностью «приятной во всех отношениях»? Или кто-то запретил эпатаж как поэтический прием? Лотреамон описывает, как Мальдорор изнасиловал девственницу, а затем вонзил в ее лоно перочинный нож с дюжиной лезвий. Цитирую: «Вспорол ей живот и вырвал все внутренности поочередно; легкие, печень, кишки, а под конец и сердце через чудовищный разрез извлек на свет…» Может быть, присоединиться к ханжам XIX века и осудить поэзию Лотреамона? Пещерному мышлению не под силу понять, что не радикальные поэты и прозаики вызывают общественную деградацию. Скорее наоборот, они – часть иммунной системы…
– А если вкратце, в чем заключается, на твой взгляд, мировоззрение Витухновской?
– Нет ничего кроме Ничто, и Витухновская – пророчица Его. Эта пародийная формулировка лучше всего передает суть дела. А если серьезно, то в 2007 году вышла моя книга «Диктатура Ничто». Это практически мгновенный слепок того, как я понимал мировоззрение Витухновской в начале 2002 года. Теперь бы я написал ее иначе, но она мне дорога в том несовершенном виде, в котором появилась на свет. Я люблю эту книгу, скорее, за ее недостатки. Как бы то ни было, мне потребовалась целая книга, чтобы написать введение в мировоззрение Витухновской, а ты хочешь, чтобы я вкратце изложил его содержание.
Помнится, Карл Густав Юнг выделял два вида творчества: психологический и визионерский. Первый обитает в обыденном, в рутине повседневных переживаний, второй «наделен чуждой нам сущностью и потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества». Творчество и мировоззрение Витухновской – визионерского характера. Витухновская касается тем и вопросов, понимание которых не возможно перелить из одной головы в другую, можно лишь попытаться пробудить – и то с большим или меньшим успехом – аналогичные переживания для последующего самостоятельного осмысления.
Я, кстати, убедился, что «Диктатуру Ничто» практически никто не понял. Но мне иногда кажется, что от личностей такого масштаба как Витухновская исходит особая энергия. Вокруг них словно бы концентрические круги. Для понимания их идей нужно оказаться в одном из внутренних кругов, иначе это абсолютно тщетное предприятие.
Наверное, многое прояснило бы, если бы я сказал, что мировоззрение Витухновской – это гностическая система. Но во вселенной Витухновской нет противостоящего демиургу высшего Бога, нет Плеромы, нет эманаций, нет падшей Софии, нет божественного Света. Так что это не гностицизм. Я в «Диктатуре Ничто» обозначаю мировоззрение Алины Витухновской неологизмом собственного изготовления «аннигилизм» (как оказалось, в английском языке соответствующий неологизм уже существовал как минимум два десятилетия. – М.Б. 2009).
– А какое отношение «аннигилизм» имеет к «метафизическому реализму»?
– Аннигилизм – это эзотерическая доктрина. А «метафизический реализм» – это экзотерическое литературное течение, объединяющее очень многих писателей, наиболее значительные из которых – Юрий Мамлеев, Сергей Сибирцев, Андрей Бычков, Анатолий Королев, Владимир Орлов и другие.
– Судя по твоим статьям, на тебя сильно повлиял Фридрих Ницше...
– С одной оговоркой. Мое знакомство с творчеством Ницше началось с книги «Воля к власти». Она действительно поразила меня, когда осенью 1995 года, на первом курсе физфака, я ознакомился с ней. Все остальные произведения Ницше меня откровенно разочаровали. «Так говорил Заратустра» я, например, и тогда не мог и сейчас не могу читать без скуки. Потом я узнал, что «Воля к власти» – это компиляция, скомпонованная из черновиков философа его сестрой – Элизабет Фёрстер-Ницше. Оказалось, что потрясающая логика и структура «Воля к власти», так контрастирующая с хаотичностью и сумбурностью других книги Ницше, – это заслуга его сестры. Так что меня можно считать «фёрстер-ницшеанцем».
Спустя некоторое время я занялся философией XIX века более серьезно, познакомился с сочинениями Эдуарда фон Гартмана, Гюйо, Банзена, Лотце, Дюринга, Гобино и других – и понял, что значительно переоценивал оригинальность идей Ницше. С тех пор, как я увидел ступеньки, ведущие этого философа к той или иной мысли, исчезло ощущение головокружительного прыжка, зато ощущение напыщенности, вычурности, претенциозности стало непереносимым. Я не понимаю тех, кто считает Ницше великим стилистом. Ницше – прекрасный метафорист, но плохой стилист. Все, что от него осталось, – это, в сущности, горсть метафор. А перечитывать его громоздкие пассажи, сбивчивые предложения на полстраницы, смаковать симптомы приближающегося безумия – меня в последнее время совсем не тянет. Я полностью согласен с Артуром Шопенгауэром: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Мне кажется, что Ницше так и не успел прояснить свои мысли, а его комментаторы напустили еще больше тумана.
Если говорить о великих философах, то я лично очень многим обязан Шопенгауэру. Это действительно великий стилист, а не мнимый, как Ницше. Кроме того, я очень ценю таких мыслителей как Эдуард фон Гартман, Отто Вейнингер, Макс Шелер и Освальд Шпенглер. А как восхитителен Макс Нордау! Я мало в чем с ними согласен, но мысленные диалог с гениями всегда плодотворен.
– Что, по-твоему, происходит сейчас в литературной критике?
– Ничего хорошего. Критические разделы «толстых» литературных журналов, меня откровенно удручают. Я открываю их – и не понимаю, для чего это написано. Все это не будет актуально уже через год. Если не верите, откройте журнал годовой давности. Интересно?! Вот мы и дожили до времени, когда третьеразрядного литератора Захара Прилепина считают «новым Горьким». Мне кажется, что наши критики полагают, что если текст написан «качественно», то это уже оправдывает его существование. В результате идет постоянное накопление текстов, возрастание словесной массы, и все ликуют: какой расцвет литературы! А это всего лишь рост энтропии.
Я полагаю, что если человек умеет писать качественные тексты – это еще ни о чем не говорит. Анализировать с блеском написанную дрянь у меня нет ни малейшего желания. В эпоху лавинообразного накопления информации резко повышаются требования к мотивированности высказывания. А критерий один, но он не поддается, к сожалению, формализации или алгоритмизации. Это боль.
Боль – это главный экзистенциал, производные от которого: одиночество, отчаяние, страх, депрессия. Парадоксально, но эти основные и центральные состояния человеческого духа почему-то называют «пограничными». Вообще говоря, страдание – это центростремительное движение, приближение к реальности, приникание к сущности мира. Или как емко выразил эту мысль Франц Кафка: «Физическая боль – это настоящая, неопровержимая, решительно ничем (мученичеством, самопожертвованием ради другого человека) не искажаемая извне истина». Если я чувствую, что текст пропитан болью, он достоин внимания. Возможно, что это не единственный подход, но меня интересует именно он. Я обозначаю его термином «алгософия», образованным от двух греческих слов, первое из которых переводится как «боль» (отсюда «алголагния», «анальгин» и так далее), а второе – как «мудрость».
К этому критерию еще примешивается моя субъективная склонность к авангарду и эксперименту. Если текст написан в необычной манере, я его обязательно отмечу.
– А кого из критиков ты наиболее ценишь?
– Полагаю, что наиболее значительный критик 90-х годов – это Вячеслав Курицын. Я недавно перечитывал его критические статьи пятнадцатилетней давности – почти ничто не устарело. А сейчас наиболее интересный критик – это Лев Данилкин. Он хотя бы понимает, что такое «русская хтонь». Что для меня необъяснимо – так это его любовь к «добротным реалистическим романам» и всякой дряни с коммерческим душком.
– А кого из критиков ты постоянно читаешь?
– Раньше я регулярно читал Павла Басинского и Владимира Бондаренко. Я и сейчас их чрезвычайно ценю, но когда мне на полном серьезе утверждают, что Прилепин, Садулаев, Иличевский и прочие посредственные авторы – это вершина современной русской литературы, я не знаю, что думать: либо они врут, либо занимаются самообманом, либо не отвечают за свои слова. В последнее время я стал больше уделять внимание критикам далеким от меня по мировоззрению, например Наталье Ивановой, перечитываю старые статьи Бенедикта Сарнова и Станислава Рассадина. Мне интересно, как они обосновывают свои убеждения и оценки. И разумеется я прочту любую статью, которая мне попадется на глаза, Льва Пирогова, Виктора Топорова, Михаила Золотоносова, Ефима Лямпорта, Кирилла Решетникова.
– Какие произведения последних лет ты бы хотел отдельно отметить?
– Мне нравятся все произведения Егора Радова, которого я вообще считаю одним из лучших писателей 90-х годов. По-прежнему ценю прозу Игоря Яркевича, Валерии Нарбиковой, Дмитрия Галковского, Алексея Цветкова-младшего и других экспериментаторов. «Голубое сало» Владимира Сорокина и его гностическая трилогия «Путь Бро», «Лед», «23 000» – великолепны. Прошел почти незамеченным блестящий роман Михаила Попова «Плерома». Из молодых авторов я пристально слежу за творчеством «депрессиониста» Романа Сенчина, «неоэкспрессиониста» Сергея Шаргунова. Мне нравятся писатели, воздвигающие над своими текстами мощные философские надстройки, как Юрий Мамлеев, Александр Зиновьев, Константин Кедров, Михаил Веллер. Из западных писателей мне наиболее интересны Мишель Уэльбек и Паскаль Брюкнер.
– Когда выйдет твоя вторая книга?
– Ницше сетовал: «Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не считал достаточно стоящим труда изучение хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано...» Я плохо представляю своего читателя. Проблематика, которая меня интересует, мало кому близка. Есть и другая причина. Вот уже три года я работаю над рукописью под условным названием «Русская половуха» – это исследование, посвященное экзотической теме – «русскому мазохизму». Но чем дальше, тем больше материала и сложнее задача. Вытяну ли? Не знаю. Пока мне достаточно того, что я провожу свои идеи контрабандой в публицистике.
– Чего бы ты больше всего хотел избежать?
– Я не хотел бы в своей жизни больше влюбляться. Я из тех людей, кто заболевает от неутоленной любви, так что буквально впадает в детство, становится ни на что не годен и способен только стонать. Этого состояния я бы хотел впредь избежать.
Беседовал Алексей Родиков
http://lych.ru/online/index.php/0ainmenu-65/43--42009/415--q-q- |