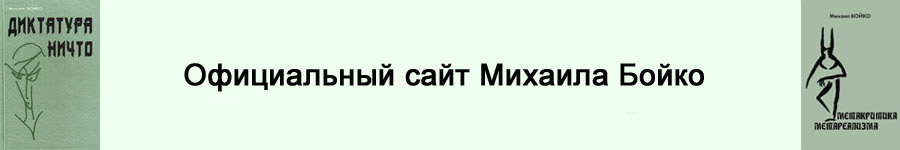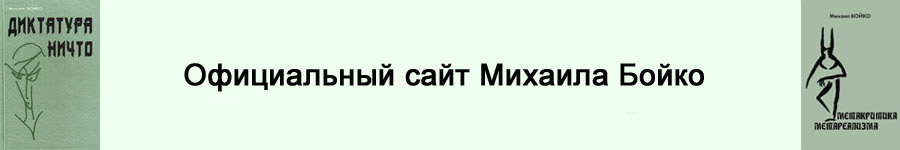Карен Степанян. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. Карен Степанян. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского.
– СПб.: Крига, 2010. – 400 с.
Юрий Карякин. Достоевский и Апокалипсис/ Науч. ред. К. Степанян.
– М.: Фолио, 2009. – 700 с.
1. Полемический запал
Книга Карена Степаняна – это еще одно исследование, в основе которого лежит крайне спорный тезис, что творческий метод Достоевского – это «реализм в высшем смысле». Всегда жаль впустую растраченных усилий, особенно если речь идет о деле жизни. Что мы имеем в виду?
А то, что все разговоры о «реализме в высшем смысле» – это, в сущности, результат недоразумения. Легко убедиться, что Достоевский никогда не говорил о «реализме в высшем смысле», иначе как в полемическом запале.
Представим следующую ситуацию. Один уважаемый человек кричит другому: «Дурак!» Вероятнее всего, он услышит в ответ: «Сам дурак!» Можем ли мы извлечь что-то содержательное из этих реплик? К сожалению, нет. Вполне возможно, что оба собеседника умнейшие люди (хотя и не очень вежливые), возможно, что оба круглые дураки, не исключено, что один из них умнейший человек, а другой круглый дурак.
Пусть теперь первый уважаемый человек кричит второму: «Вы черствый человек!» Что он услышит в ответ? «Это я-то черствый человек?! Да моя черствость в тысячу раз мягче вашей мягкости!»
«Моя черствость» в последней реплике – это отнюдь не признание собственной черствости, «ваша мягкость» – это отнюдь не признание чужой мягкости. Фраза «моя черствость в тысячу раз мягче вашей мягкости» может иметь как минимум три разных смысла: 1) я вовсе не черствый человек, вы заблуждаетесь относительно моих личных качеств; 2) вы сами далеко не мягкий человек, во всяком случае, гораздо черствее меня, так что не вам меня в этом упрекать; 3) я не черствый и не мягкий человек, поскольку вообще лишен данного качества и существую по ту сторону противоположности «черствый/мягкий», вы подходите ко мне с критерием, который ко мне неприменим.
Другими словами, фразы, произнесенные в полемическом запале, недействительны вне породивших их ситуаций. Их нельзя понимать дословно. Подчас они имеют смысл очень далекий от буквального.
А теперь приведем все или почти все цитаты, на которые ссылаются сторонники «реализма в высшем смысле». «Меня зовут психологом, неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» (ПСС, 27:65). «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм – реальнее ихнего. Господи! Пересказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает!» (28-2:329). «У меня свой особый взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд по-моему не есть еще реализм, а даже напротив» (29-1:19).
Во-первых, не густо. Во-вторых, легко заметить, что перед нами исключительно фразы, произнесенные в полемическом запале. Называть после этого Достоевского «реалистом в высшем смысле» – это и означает мелко плавать. Мы попробуем нырнуть поглубже.
Как мы выяснили, фразы, произнесенные в полемическом запале, недействительны вне породившей их ситуации. Что это была за ситуация? В некоторый момент со стороны ангажированных критиков (в основном из революционно-демократического лагеря) на Достоевского посыпались обвинения в «фантастичности», «искажении реальности», «идеализме» и т.д. Тактика заключалась в том, чтобы навязать писателю чуждые ему критерии и термины, заставить говорить на своем (то есть критиков) языке и тем самым поставить в заведомо проигрышную ситуацию.
Что делает Достоевский? Он понимает, что термины «реализм», «псевдореализм» (П.Анненков), «антиреализм», «идеализм», «действительность», «фантазия» и т.д. одинаково неадекватны применительно к его творчеству. Но Достоевский также понимает, что лучшая оборона – это нападение. Поэтому он в полемическом запале производит несколько контратак. Их цель – отбить у оппонентов аксиологически окрашенный термин «реализм» и тем самым лишить их самого опасного оружия – права решать, что является «реальным» (и «реалистическим»), а что нет.
С этой задачей Достоевский блестяще справляется. Фактически он подменяет вопрос о том, является ли его творчество реалистическим, запутанным вопросом о том, чем «реализм в высшем смысле» отличается от «просто реализма». Теперь он мог чувствовать себя в безопасности.
Чем же объясняется зацикленность отечественных литературоведов и критиков на термине «реализм»? Основных причин две. Первая заключается в том, что еще в XIX веке завелась дурная традиция использовать термин «реалистический» в значении «имеющий художественную ценность». В советское время ситуация еще усугубилась, а в начале XXI века мы убеждаемся, что инерция по-прежнему велика. Дело в том, что отказ от термина «реализм» можно сравнить с «коперниковской революцией», но литературоведы «старой закваски» по-прежнему мыслят в рамках «птолемеевской картины мира».
Вторая причина – игнорирование аргументации философов, культурологов, представителей естественнонаучных дисциплин, последовательно выступающих за изъятие термина «реализм» из употребления. Прочитав книгу Степаняна, можно подумать, что в России и вообще в мире есть только один противник термина «реализм» – философ Вадим Руднев. Однако и его взгляды почему-то излагаются со ссылкой на книгу «Словарь культуры XX века». Между тем полная аргументация Руднева по данному вопросу содержится в двух других его книгах – «Морфология реальности» (М., 1996. С. 155–175) и «Прочь от реальности» (М., 2000. С. 174–203).
Складывается впечатление, что Руднев упомянут только из научной добросовестности. Но научная добросовестность заключается не в упоминании оппонентов, а в стремлении понять их аргументацию. Но о каком понимании может идти речь, если доводы Руднева «опровергаются» Степаняном с помощью следующего «контраргумента»: «При таком подходе, полностью размывающем связь произведения литературы с человеческим бытием, становятся возможными бесчисленные варианты его «адекватного» анализа и интерпретации, а значит, по сути, никакой анализ и интерпретации уже не нужны». Какое это имеет отношение к построениям Руднева? Или это пример «логики в высшем смысле»?
А вот из каких соображений Степанян отказывает писателю Юрию Мамлееву в праве считаться последователем Достоевского: «Скажем, в произведениях такого безусловно крупного прозаика, как Юрий Мамлеев, все, существующее за пределами эмпирического мира, представляет собой некую загадочную и принципиально непознаваемую среду, из которой в нашу жизнь прорываются какие-то монстры и чудовища». Отсюда можно заключить, что Карен Степанян не знаком 1) с художественными произведениями Мамлеева, написанными в последнее двадцатилетие, в которых напрочь отсутствуют монстры и чудовища; 2) с философскими работами Мамлеева «Судьба бытия» и «Россия вечная», дающими развернутую картину (естественно, неполную) мира, существующего за пределами эмпирики; 3) с обоснованием Мамлеевым своего творческого метода (этот метод Мамлеев называет «метафизическим реализмом» и считает развитием, углублением и обобщением «реализма в высшем смысле» Достоевского).
Третий пункт нуждается в небольшом комментарии. Термин «метафизический реализм» крайне неудачен, однако идея Мамлеева верна. По мнению Мамлеева, «произведения Достоевского слишком антропологичны» (эссе «О Достоевском»). Это подчеркивали многие достоевисты. В частности, Федор Евнин настаивал, что главная тема Достоевского – «человек и человеческое; личность в ее потенциях и борениях, в ее отношениях к себе подобным, к обществу, к миру». А Юрий Карякин в книге «Достоевский и Апокалипсис» (научный редактор – Карен Степанян) утверждает: «Он (Достоевский. – М.Б. ) не столько переводил слова «совесть», «любовь», «жизнь» словом «религия», сколько слово «религия» – словами «совесть», «любовь», «жизнь». Созданный им художественный мир вращается вокруг человека, а не вокруг Бога. Человек – единственное солнце в этом мире – должен быть солнцем!» (С. 187–188).
Дальнейшее развитие творческого метода Достоевского Мамлеевым состоит в том, что в общую картину включаются неатропоморфные субъекты, то есть существа высшей или низшей нечеловеческой природы, населяющие иные пласты нашего мира или другие миры. В существовании таких существ и миров уверены представители большинства традиционных конфессий и в том числе православия. Таким образом, расширение метода Достоевского налицо.
 |
«Реализм в высшем смысле» – прокрустово ложе достоевистики...
Рисунок Алины Витухновской и Михаила Бойко
|
А теперь самый насущный вопрос: если «реализм в высшем смысле» – это неадекватное обозначение творческого метода Достоевским, то каким будет адекватное обозначение? Разумеется, мы бы не стали писать эту статью, если бы не знали, как подступиться к ответу. Как-то в своем докладе (на философском семинаре Анастасии Гачевой) Карен Степанян согласился с афоризмом (авторство мне не удалось установить), что «если мысль является глубокой, то и противоположная ей мысль является глубокой».
Рассмотрим глубокую мысль: «Творческий метод Достоевского – это реализм в высшем смысле» (А). Что из нее следует? Что противоположная ей мысль также является глубокой: «Творческий метод Достоевского – это антиреализм в высшем смысле» (не-А). Но в отличие от тезиса, которому посвящены десятки исследований, антитезис до сих пор практически не раскрыт литературоведами, хотя его эвристический потенциал огромен и дальнейший прогресс достоевистики будет связан именно с освоением антитезиса.
Но останавливаться на тезисе или антитезисе – это означает все еще мелко плавать, от чего предостерегал Достоевский. Может показаться, что более глубоким подходом будет рассматривать синтез А и не-А (обозначим его S). Это ошибка. Дело в том, что синтез неизбежно имеет логическую форму тезиса и, следовательно, порождает свой антитезис (не-S). Как избежать дурной бесконечности диалектики?
Над этим вопросом ломало голову сразу несколько русских мыслителей Серебряного века, и найденный ими подход настолько изящен, что проблему можно считать решенной в принципе. Попробуем реконструировать ход их мысли.
Если тезис является глубоким, то и антитезис является глубоким. Это верно. Но если тезис является по-настоящему глубоким, то антитезис просто совпадает с тезисом (антитезис тождественен тезису). Проще говоря, проблему можно переформулировать: как построить форму, соединяющую А и не-А, таким образом, чтобы она совпадала со своим собственным отрицанием?
О. Павел Флоренский вслед за Кантом предложил называть такую форму антиномией . Вот его определение: «Антиномия есть такое предложение, которое, будучи истинным, содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что недоступно никакому возражению» («Столп и утверждение истины». Ч. I. Письмо шестое). Связь тезиса с антитезисом в антиномии является не логической (это не просто логическое произведение, или конъюнкция), а металогической. С антиномиями имеет дело антиномистическое познание, суть которого Семен Франк передавал следующим образом: «Антиномистическое познание выражается как таковое в непреодолимом, ничем более не превозмогаемом витании между или над этими двумя логически несвязанными и несвязуемыми суждениями. Трансрациональная истина лежит именно в невыразимой середине, в несказанном единстве между этими двумя суждениями, а не в какой-либо допускающей логическую фиксацию связи между ними» («Непознаваемое». Гл. IV. 3). К сожалению, и Флоренский, и Франк, и другие мыслители Серебряного века не отказались полностью от употребления термина «реализм», но мы не можем требовать от первопроходцев слишком многого.
Поразительно, но логика большинства героев Достоевского является антиномичной. И мы можем заключить, что творческий метод Достоевского – это какая-то особая разновидность художественного антиномизма (только этот смысл и имеет уродливая оксюморонная конструкция «фантастический реализм»). Для обозначения этой разновидности желательно подобрать незатертое выражение, а еще лучше – неологизм.
Перед исследователями же новой генерации стоит задача очистить авгиевы конюшни литературоведения. Это означает не просто изъять термин «реализм» из употребления, но и выполоть все сбивающие с толка гибридные формы (я бы их сравнил с генно-модифицированными продуктами): «фантастический реализм», «символический реализм», «христианский реализм», «идеал-реализм», «метафизический реализм», «мистический реализм», «магический реализм», «онтологический реализм», «новый реализм» и т.д.
Само количество конструкций «(эпитет) + реализм», введенных литературоведами в оборот, свидетельствует о бессмысленности подобного умножения сущностей и неудовлетворительности исходного термина.
 2. Гримасы лапласовского демона 2. Гримасы лапласовского демона
Поскольку Юрий Карякин в отличие от Карена Степаняна не лезет в дебри онтологии и не пользуется терминами, лишенными научного содержания, его книга смотрится гораздо выигрышней. В сущности, это эталонное исследование по евклидовой достоевистике. Что мы имеем в виду?
В геометрии, как известно, существует аксиома параллельности Евклида. Ни доказать, ни опровергнуть ее невозможно (как всякую аксиому). Ее можно либо принять (тогда мы получаем евклидову геометрию), либо отвергнуть (тогда мы получаем ту или иную разновидность неевклидовой геометрии).
Аналогом аксиомы параллельности в литературоведении является допущение о том, что именно авторская позиция является критерием правильности интерпретации текста. Иными словами, допущение, что аутентичный смысл текста – это то, что хотел сказать автор. Если мы будем руководствоваться этой аксиомой в исследованиях текстов Достоевского, то получим достоевистику I.
Но мы можем отвергнуть эту аксиому и вместе с Николаем Добролюбовым сказать: «Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни» (статья «Когда же придет настоящий день?», 1860). Или присоединиться к Михаилу Бахтину: критик должен понимать автора лучше, чем сам автор себя понимает. В этом случае мы получим достоевистику II.
Карякин искренне полагает, что до аутентичного смысла произведений Достоевского можно докопаться путем кропотливого анализа текстов, черновиков, писем, записных книжек, публицистики писателя. Он утверждает: «Конечно, и у гениев замыслы расходятся с результатами, но все-таки, вероятно, меньше, чем у всех других. Может быть, потому-то они и гении, что как никто умеют осуществлять свои замыслы» (С. 28).
В частности, свой блестящий разбор «Преступления и наказания» Карякин строит на вдумчивом прочтении эпилога романа. Непонимание или ложное понимание, по его мнению, рождается от непрочтения: «Многие читатели теряют жгучий интерес к роману после того, как Порфирий «уличает» Раскольникова, а тот признается в убийстве. Эпилог прочитывается лишь «для порядка», второпях, последние страницы почти и не помнятся. Достоевский ли тут виноват? Сомнительно. Ведь у него нет ни одной непродуманной, невыстраданной строки, ни одной зряшной «ноты»…» (С. 41). Далее: «Я уверен и, смею сказать, даже знаю (опрашивал, проверял, перепроверял): почти все предрассудки в отношении к Эпилогу – это именно предрассудки, предвзятости, они идут не от той или иной концепции прочтения, а просто от непрочтения, от непрочтения текстов поистине пушкинской простоты и содержательности» (С. 123).
Складывается впечатление, что Достоевский по отношению к созданному им художественному миру – это лапласовский демон: он все предвидел, все пропустил через сознание, все разрешил и отрефлексировал, снабдил нас всеми ключами для понимания, математически просчитал каждую фразу.
На самом деле игнорирование читателями, кинорежиссерами и филологами Эпилога можно объяснить иначе. В частности, можно заключить, что проистекает оно не от непрочтения, а от недоверия. Все отлично понимают, что хотел сказать Достоевский, но это «не сказалось» в том смысле, который имел в виду Добролюбов. Читатель не верит Эпилогу и потому вытесняет его из сознания. Если бы то, что хотел сказать Достоевский, получило бы в романе художественно убедительное воплощение, читателей не нужно было бы принуждать к прочтению Эпилога, а Карякину не пришлось бы разжевывать смысл этого «поистине пушкинской простоты и содержательности» текста. Но о чем спорить, если заранее постулировано, что у Достоевского ни одной зряшной «ноты»!
Именно поэтому такое неприятие со стороны отечественных литературоведов встретил тезис немецкого слависта Вольфа Шмида, утверждавшего, что богоборческие главы «Братьев Карамазовых» настолько затмевают проповеди Зосимы, что фактически не имеют в тексте адекватного противовеса, как «это было уже не раз констатировано и подтверждается все снова и снова непредвзятыми читателями». Впрочем, мы уже писали об этом в статье «Буриданов осел нашего времени» («НГ-EL» от 23.10.08), посвященной разбору взглядов литературоведа Игоря Виноградова, так что не будем повторяться.
Хочется верить, что отечественная достоевистика преодолеет обе болезни роста – и представление о писателе как о лапласовском демоне, и бесплодные игры с лишенным научного содержания термином «реализм».
P.S. В заключение заметим, что книги Карена Степаняна и Юрия Карякина написаны блестящим языком, представляют собой обобщения огромного фактического материала и в том, что касается анализа отдельных произведений Достоевского, являются выдающимися достижениями.
http://exlibris.ng.ru/2010-07-22/4_dostoevsky.html |