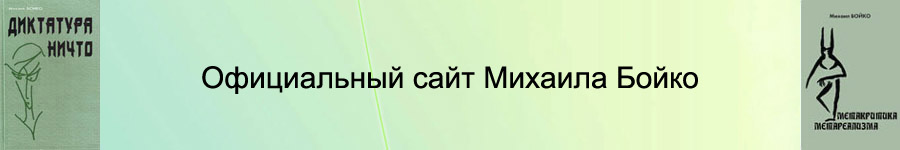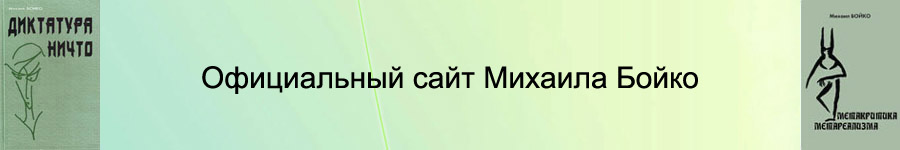|
Илья Репин. Николай Мирликийский избавляет от смерти
трех невинно осужденных. 1888. |
Русская тайна
Русской тайны полторы столетия как не существует. Ответ на вопрос о загадке русской души появился почти одновременно с постановкой самого вопроса. Но ответ столь невероятный, что и сегодня порождает недоумение. Выяснилось, что специфической национальной способностью русских является исключительная восприимчивость к страданию. Русская душа и способность к переживанию страдания подошли друг к другу как ключ и замочная скважина. Оказалось, что и русское пьянство, и русская половуха, и русский разгул по принципу «Безобразничаю, пока не свяжут!», и русский бунт «бессмысленный и беспощадный» во все времена служили выяснением границ свободы – только не внешней, как на Западе, а свободы внутренней. Внешняя свобода – свобода личности от общества – противоречила идее сильной государственности, образовывавшей необходимый момент русской истории. Нравственный простор и внутреннюю свободу русский человек обретал в духовном поиске. Отсутствие внешней свободы стало причиной того, что границы внутреннего мира русского человека раздвинулись далеко за пределы узкого коридора переживаний, доступных типичному европейцу. Русский человек живет на несколько диапазонов шире европейца – как в сторону ультранаслаждения, так и в сторону инфрастрадания.
Ну и черт с ней, с загадкой! Одной ностальгической химерой меньше!
И не стоило бы повторяться, если бы, как заметил Федор Гиренок, русская идея не была бы идеей, до середины которой редко долетит какой русский…
Конечный опыт европейской метафизики
К началу XXI века можно констатировать, что физиология не смогла не только дать нам определения боли и наслаждения, но и помочь в установлении границ между ними. Что образует нестерпимость боли? И почему однажды человек начинает искать ощущений, которых прежде избегал? Что образует привлекательность наслаждения? И почему человек вдруг перестает находить источник неисчерпаемого удовольствия в круговороте простейших ощущений? И здесь – как везде, где наука не может помочь в прояснении вопроса – ответа приходится ждать от философии.
Европейской метафизикой было установлено, что страдание и удовольствие асимметричны. Как ёмко сформулировал Фридрих Ницше: «Боль всегда пытается найти причину, ответить на вопрос «за что?» и «почему?», в то время как наслаждение, как правило, довольствуется тем, что есть и, не желая докапываться до причин, предпочитает безоглядность».
Наслаждение – это невесомость в свободном падении, фикция преодоления реальности, иллюзия отождествления с самим собой. Человек в момент оргазма забывает даже о возлюбленной (возлюбленном). Наслаждение – это апофеоз собственного «я», в чем собственно и заключалась проповедь печально известного узника Шератонской психбольницы.
Страдание – это непосредственное ощущение реальности, апофеоз царства необходимости и принципа причинности. Человек страдающий существует в гораздо более интенсивной степени, чем человек наслаждающийся. Легко вообразить себе страдание, рядом с которым призрачно любое удовольствие – наблюдение, подтолкнувшее Артура Шопенгауэра к созданию собственной философской системы.
Западная цивилизация сделала выбор в пользу наслаждения без его культурных, ритуальных и символических посредников, которые, собственно, и составляют специфику человеческого наслаждения. Комфорт, эйфория потребления и сексуальная свобода – вообще все атрибуты западного образа жизни, обобщенные в образе «американской мечты» – представляют собой конечный опыт европейской метафизики. Европеец славословит сладостную непрактичность природы, позволившей, как ему кажется, себя перехитрить.
Напротив, у русского человека, как впервые отметил Достоевский, существует «исконная потребность в страдании, страдании во всем, даже радости», ибо «русскому человеку наслаждение невнятно без страдания». Эта таинственная черта на протяжении веков образовывала ингредиент того неистощимого удивления, с которым западные путешественники писали о русских. Европеец без усилия понимал природу «садизма», как искушение спустить с цепи томящегося в человеке зверя, но ломал зубы на таком явлении как «мазохизм». Даже Мишель Уэльбек, занимаясь картографированием сексуального ландшафта Европы, не мог скрыть недоумения: «Палачей я еще хоть как-то могу понять, они мне отвратительны, но я знаю, что существуют люди, которым нравится истязать других; с чем я не в состоянии смириться, так это с поведением жертв. Как человек может дойти до того, чтобы предпочитать страдания радости? Не знаю, таких надо перевоспитывать что ли, любить их, учить наслаждаться». Неудивительно, что столь непостижимое для европейца явление с самого своего возникновения получило славянский колорит.
Самоучитель страдания
Достоевский в «Записках из подполья» сделал вывод, что «с любовью и без счастья можно прожить». Именно по этой причине русский традиционный брак был очень прочен и, как правило, несчастен. Жизненный опыт русского человека заключался в умении жить в несчастье, невыносимом разладе с условиями существования, попрании собственных склонностей. Когда непрерывно испытываешь страдание, то испытываешь его и в приятные моменты. Так происходит взаимопроникновение боли и удовольствия.
Для Достоевского самым большим испытанием стал роман с Аполлинарией Сусловой – честолюбивой женщиной на двадцать лет моложе его и с определенно садомазохистскими наклонностями. Вместе они прожили год, а затем она мучила его еще несколько лет, пока окончательно не разорвала с ним все отношения. Современники не раз находили черты Сусловой в героинях Достоевского – Полины («Игрок»), Настасьи Филипповны («Идиот»), Катерины Николаевны («Подросток») и Грушеньки («Братья Карамазовы»). Но самым ярким мазохистским образом Достоевского стала девочка-бесенок из «Братьев Карамазовых»: «А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, притворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, высвободив руку, она тихо, медленно прошла в свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:
– Подлая, подлая, подлая, подлая!»
Не стоит сводить проблему к психологическим особенностям Достоевского. Еще до того, как им был написан первый роман, представление о русском национальном мазохизме в той или иной нюансировке разделялось несколькими поколениями европейских ученых. В разнообразных вариациях оно несло в себе более-менее отчетливое ценностное суждение в пользу европейцев. Окончательный диагноз русской душе поставили великие антропологи Леопольд фон Захер-Мазох и Фридрих Ницше. В роли «муз» и в том, и в другом случае выступали русские женщины – прообразы сильных, властных и жестоких помещиц Захер-Мазоха и «совершенный друг» и «абсолютное зло» в жизни Ницше – Лу Андреас-Саломе.
Остраданивание мира
Большой знаток русской литературы и нацистский бонза Альфред Розенберг объяснял русское самоунижение в страдании «двухсотлетним отвыканием от самостоятельности и двухсотлетним оплевыванием русского лика, которое привело русскую совесть к катастрофической покорности». По его мнению, «идея страдания тесно связана с движением к потере индивидуальности и раболепию». О том, что любить страдание и любить завоевателей – это не одно и то же, Розенберг имел возможность поразмышлять на эшафоте.
Для русского человека наслаждение есть результат заслуги. В отличие от европейца он не способен наслаждаться без чувства вины, если наслаждение не было куплено ценой нравственных заслуг. В отличие, например от индийца, он не принимает свою судьбу как расплату за плохую карму. Индиец надеется на итоговую космическую справедливость там, где русский жаждет справедливости «здесь и сейчас».
Иностранцы расценивали терпеливость и упорство русского народа как страшную волю приобщить к своему несчастью всех, до кого он только сможет дотянуться. В этом была доля истины. Спасение мира, которым грезила русская литература, означало отнюдь не «осчастливливание» мира, а его «остраданивание» и только через него – облагорожение, искупление, приобщение к высшим нравственным ценностям. Научиться у русских счастью невозможно, как невозможно научиться шутить у человека, не умеющего смеяться. У русских можно научиться лишь одному – жить с несчастьем, как поделился Константин Случевский:
И вот теперь, на склоне жизни,
Могу порой совет подать,
Как меньше пользоваться счастьем,
Чтоб легче и быстрей страдать.
Для русского народа очищение наступало тогда, когда все отдельные боли сливались в одно общее страдание, действующее как своего рода анестезия. И опричнина, и смутное время, и гражданская война, и коллективизация – были для него забрызганной кровью лестницей, ведущей к Богу. Не рабский инстинкт, а проверенный тысячелетней борьбой за выживание опыт вынуждал русский народ на протяжении столетий из двух зол всегда выбирать наихудшее. И только фальшивая марксистская фразеология помешала после победы в Великой Отечественной войне выйти на амвон этой новой русской идее.
Понимание коллизий русской истории образует заслуживающую доверия почву для современной практики. И сегодня сильная власть и тоталитарное искусство – это образы, к которым русское бессознательное продолжает ощущать могучую предрасположенность. Нет сомнений, что в решающий момент российская государственность обрастет народной поддержкой, как намагниченный брусок щетиной из железных опилок. Проблема в том, что если до сих пор способность к страданию и пассивное принятие беды как неизбежности были козырями в борьбе за выживание, то сегодня они – причины русской катастрофы. Пора понять, что страдание может иметь в качестве причины конкретный интерес, а не космическую стихию. И тогда мы приблизимся к ответу на вопрос: как русскую способность к страданию сделать конкурентным преимуществом?
|