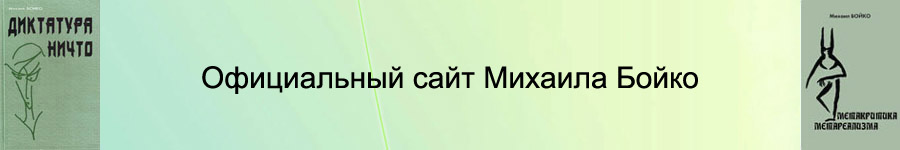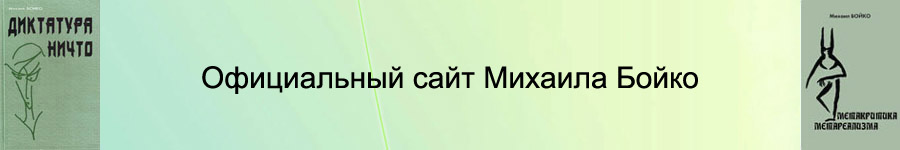|
У каждого должно быть свое кредо...
Витраж (Музей Средневековья, Париж). Фото Михаила Бойко
|
Сколько сегодня в России литературных обозревателей, рецензентов, профессиональных читателей, пишущих отзывы? Несколько тысяч.
А сколько в России литературных критиков, имеющих четкие эстетические и мировоззренческие принципы? Полтора десятка. Не больше.
Это, конечно, не означает, что всех остальных можно игнорировать со спокойной совестью: одни пока не удосужились придать своим принципам чеканную форму, других газетный формат вынуждает щипать корпию.
Кому-то, наверное, и мои литературно-критические высказывания кажутся бессистемными. В действительности, все мое творчество и жизненная практика проистекают из довольно ограниченной обоймы идей. Выбивающееся из-под гребенки – помехи или поденщина.
Гораздо справедливей упрек в схематичности и эпатаже. Но это уже вопрос субъективных предпочтений. Мне, например, сухая схема дороже цветущей эклектики, а цельность костей – вороха пестрой ветоши. И уж, конечно, я не из тех, кто черпает свои идеи из сокровищницы общепризнанного.
В этой статье я хотел бы дать несколько поперечных разрезов своего мировоззрения. Ради удобства изложения ограничусь пятью: «Эмпатия», «Диктатура Ничто», «Мир как Dungeon», «Народ-мазохист», «Новая аскеза».
Разрез первый: Эмпатия. Я полагаю, что любое мировоззрение проистекает из субъективной неоспоримости внутреннего опыта, ручающегося за самого себя и самому себе служащего верительной грамотой. Речь идет о внутреннем переживании, сама мысль о недостоверности которого ведет к внутреннему конфликту, эго-дистонии, распаду личности.
Соответственно, основание любой эстетики – бесконечное полагание себя самого и постулирование истинности внутреннего опыта. Разновидностью внутреннего опыта является эмоциональное переживание Чужого. Чтобы не изобретать новых слов для давно известных понятий, я употребляю слово «эмпатия». С таким же успехом можно было бы говорить о «живой активной интуиции» (А. Бергсон), «артистическом чувстве восприятия» (О. Шпенглер), «инспирации» (Ф. Ницше), «вчувствовании» (Т. Липпс) и т.д.
Разрез второй: Диктатура Ничто. У человека нет более достоверного источника знания, чем внутреннее чувство (редкие всполохи проникновения в сущность вещей, своего рода духовные рентгенограммы). Это теплящееся понимание выразимо лишь на индивидуальном языке. Используемый нами интерсубъективный (конвенциональный) язык – отчужденная форма коммуникации, постоянно возобновляемый компромисс между Своим и Чужим, Я и не-Я. Любая интуиция, выраженная на конвенциональном языке, отрывается от своего истока – залога ее достоверности. Отсюда интерес к «довербальному», а также неологизмам и художественной метафоре как радуге между двумя берегами – индивидуальным языком и отчужденной формой коммуникации.
Это означает, что любое утверждение (проистекающее из внутреннего опыта, но выраженное в отчужденных понятиях), будучи доведенным до наиболее отдаленных следствий, асимптотически стремится к абсурду. Такое состояние «самоаннигиляции» человеческого знания о сущности вещей я называю «Диктатурой Ничто» (выражение Алины Витухновской). Строго говоря, ничто – единственный «объект» (псевдообъект) и единственное «понятие» (псевдопонятие) – о которых возможны непротиворечивые высказывания. Совокупность таких высказываний я называю «нигилософией». Обобщить их можно тезисом: «Ничто нет, и это все, что о нем можно сказать».
Мимоходом я коснулся этих вопросов в книге «Диктатура Ничто» (М.: Литературная Россия, 2007). В этой работе я умышленно избегал теоретических изысков, поскольку ее тема – не мое мировоззрение, а мировоззрение Алины Витухновской. Но было бы неправильным понимать эту книгу, как исповедание: «Нет ничего, кроме Ничто, и Витухновская – пророчица его».
Философии небытия я буду уделять внимание и в дальнейшем – в следующих «заходах».
Разрез третий: Мир как Dungeon. Что представляет собой та компонента внутреннего переживания, которая сообщает ему непосредственную достоверность и служит его верительной грамотой? Это боль – основной, самый безусловный и полносмысленный факт внутреннего опыта. Полностью согласен с утверждением Михаила Кураева: «Есть только один сюжет подлинного искусства – боль» («Литературная Россия», 2006, № 47), хотя полагаю, что это совпадение во взглядах совершенно случайно.
Боль – это единственный экзистенциал, измененные формы которого: одиночество, отчаяние, страх, депрессия. Парадоксально, но эти основные и центральные состояния человеческого духа почему-то называют «пограничными».
Вообще говоря, страдание – это центростремительное движение, приближение к реальности, приникание к сущности мира. Или как емко выразил это в общем-то шопенгауэровское воззрение Франц Кафка: «Физическая боль – это настоящая, неопровержимая, решительно ничем (мученичеством, самопожертвованием ради другого человека) не искажаемая извне истина» (Дневники, запись от 1 февраля 1921 года).
Напротив, светлая гамма переживаний порождается утратой реальности. Удовольствие, умиротворение и радость – это центробежное движение, забвение реальности, бегство в иллюзию.
Более подробно я высказался по этому поводу в статье «Мир как Dungeon» («Литературная Россия», 2006, № 27). Dungeon в переводе с английского означает «пещера». Так в BDSM-культуре называют место, специально оборудованное для проведения садомазохистских «сессий». Мир – это огромная «пещера», в которой мы выступаем в качестве палачей и жертв. Только в качестве карательного инструмента в нем фигурируют социальные и физические законы. Кто желает, может развить эту метафору дальше (возможно, я сам предприму такую попытку). Вопрос о существовании трансцендентного существа, наслаждающего этой экзекуцией, мне безразличен.
Разрез четвертый: Народ-мазохист. По моему мнению, «самую главную, самую коренную духовную потребность русского народа» отметил Достоевский в «Дневнике писателя». Это – «потребность в страдании, страдании во всем, даже радости».
А у других народов этический максимум – сострадание: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества».
Допустим, что это утверждение, не может быть механически распространено на весь русский народ. В таком случае, меня интересует та – лучшая! – часть русского народа, относительно которой наблюдение Достоевского верно.
Возможно, что это утверждение Достоевского ложно. В таком случае меня интересует «народ-мазохист» как историософская абстракция, поскольку только такой народ способен к постижению истины, в то время как западная цивилизации с ее гедонистическим культом обречена на центробежное движение.
Даже если представление о «русском мазохизме» и «рабской душе России» (Д. Ранкур-Лаферьер) является мифом, встает вопрос о его происхождении. В любом случае, это отдельное поле для исследования, и в этом исследовании не обойтись без анализа литературы. Как писал Федор Гиренок: «Русская литература всегда казалась мне странной. У всех она просто литература. У нас она ещё и философия. В ней, как в сундуке, хранится наше сознание. Наши философы – это писатели, а литература – это критический минимум русского сознания» («Литературная Россия», 2006, № 19). Именно поэтому я занимаюсь литературной критикой, а не философией.
Мимоходом я коснулся этих вопросов в статьях «Страдательный залог» («Литературная Россия», 2007, № 1) и «Особенности национального мазохизма» («Литературная Россия», 2007, № 23).
Разрез пятый: Новая аскеза. Какая жизненная стратегия следует из постулата о нравственной и гносеологической ценности страдания? По-видимому, единственное противоядие от соблазнов общества потребления – это возрождение в той или иной форме «аскетического идеала» (без рахметовских гвоздей).
Найти эту жизненную стратегию, сделать «новую аскезу» привлекательной и растиражировать ее – и является, по моему мнению, актуальнейшей задачей.
http://organon.cih.ru/kritika/boyko03.htm |