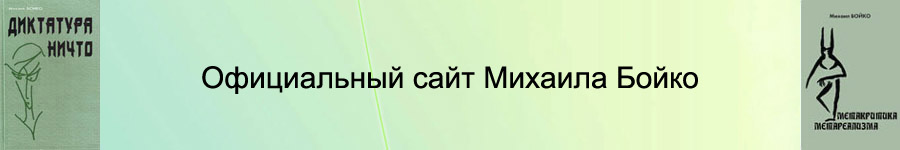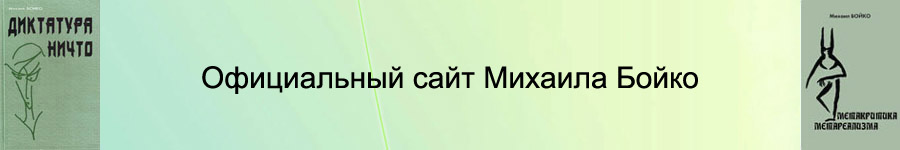|
Сплошная трансгрессия в Бесконечность...
Фото из архива Егора Радова |
Помню свои первые впечатления от дебютного романа Радова «Змеесос». С некоторым удивлением я обнаружил, что не могу прочесть более двух-трех страниц зараз: потом приходилось делать перерыв, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли. До сих пор мне трудно отделаться от духовно-геометрической ассоциации: страница этого романа и упирающаяся в нее под прямым углом трансценденталь.
Двухполюсная система
Егор Радов – тот писатель, тексты которого приходится отмеривать и отвешивать, чтобы не случилась передозировка. То же самое можно сказать еще об одном писателе – Андрее Платонове, но развитие этой (не мне первому пришедшей в голову) параллели, к сожалению, увело бы нас слишком далеко в сторону.
Но возможен еще более неожиданный контекст – Сведенборг, Рудольф Штейнер, Даниил Андреев. У Радова, как визионера, было свое послание, которое он стремился донести. Оттого иногда кажется, что романы Радова – это не романы вовсе, а лейденские банки, заряженные грезами. А грезы эти при пристальном рассмотрении оказываются картинами иной реальности (высшей, низшей и параллельной).
Почему я в этом уверен? Мы догадываемся, да Радов этого и не скрывал, что у него был соавтор. Этот соавтор ничего не выдумывал, он лишь освобождал мозг писателя от каких-то «блокаторов». Имя этому соавтору – наркотик, и лучшие свои произведения писатель создал именно в период зависимости (которую в последние годы жизни сумел преодолеть).
Если я сейчас затрагиваю тему, углубляться в которую невозможно, не споткнувшись об общественное ханжество, то только потому, что хочу донести одну очень важную мысль. Наркотик действительно взламывает человеческую психику. Если считать диапазон ощущений здорового человека за одну октаву, то ощущения наркомана на несколько октав богаче. Причем в обе стороны – в направлении ультранаслаждения и инфрастрадания (эти обозначения условны – с тем же успехом можно говорить об инфранаслаждении и ультрастрадании). За пределом максимально возможного для здорового человека в нормальных условиях (это необходимые оговорки) наслаждения у наркомана простирается область ультранаслаждения (Кайфа), а за другими пределом – область инфрастрадания (Ломки). Жизнь наркомана – это электрическая дуга между двумя электродами – Кайфом и Ломкой. В статье «Опиум умеет ждать» Радов писал об этом так: «Для нормального, здорового человека характерно в принципе ровное состояние – чуть лучше, чуть хуже, а для наркомана постоянно: ад-рай-ад-рай. И так до бесконечности».
Сложно отрицать, что, разрушая человека, наркотик действительно дает некий опыт, не достижимый другим путем. Поэтому Радову было что сказать. И в этом отличие Радова от сотен успешных литераторов – превосходно владеющих словом, но не имеющих сверхзадачи, выстраданного «послания», эксклюзивного внутреннего опыта. Они всегда на поверхности, как поплавки, – получают премии, раздают интервью, не сходят с полос газет. Но то, что они пишут, это не литература. В контексте настоящей литературы их писанина – это информационный шум, метеопомехи.
А вот часто встречающееся сравнение Егора Радова с Владимиром Сорокиным не имеет смысла. Сорокин занимается языковой игрой, комбинаторикой, деконструкцией. Его тексты – это забава здорового пресыщенного человека. Сорокин – это кто угодно, только не визионер. В случае Радова мы имеем дело с совсем иной степенью накала, интенсивностью существования. Обращаясь к его книгам, следует помнить, что за них заплачена огромная цена, что это письмена, в буквальном смысле обагренные кровью. Каждая из его книг – это спрессованные в бумажный брикетик и упакованные в яркую обложку непрожитые Радовым годы (или, вернее, досрочно им прожитые).
В романе «Змеесос» есть такой пассаж: «Для меня минуты перед самым свершением казни есть лишь концентрация всего того, чем может являться жизнь, – все этой ситуации с вечной угрозой смерти; казнь лишь спрессовывает суть посюстороннего бытия и делает его более живым, более реальным, что ли, совершенно ничего не изменяя в принципе, кардинально; сохраняя субъекта на том же самом уровне, на котором он и провел свое время, и делая этот уровень просто более наглядным для него самого и для зрителей. В этом смысле, конечно, блажен и счастлив казнимый, ибо ему дан шанс за какие-то минуты постигнуть и ощутить то, что растягивается обычно для нормального индивида на долгие годы; и постигнуть это в чистом, незамутненном виде». Череда состояний, о которых говорил Радов, снование ад-рай-ад-рай – это многократно повторяющаяся мистерия мучительной казни и последующего воскрешения. Затухающие колебания, оборвавшиеся 5 февраля 2009 года в городе Карголим, штат Гоа, Индия.
И все же я думаю, что Радов успел все, что должен был сделать. Не думаю, чтоб он особенно сожалел о непрожитой старости. Вряд ли бы он вышел на какой-то иной, еще более высокий творческий уровень. Книги Радова – спелые плоды, а не завязи каких-то нереализованных замыслов. Не будь героина, возможно, Егор Радов прожил бы 80 лет, но не состоялся бы как писатель. А, может быть, – что гораздо хуже – состоялся бы как графоман и, кто знает, получил бы Букера и Большую книгу… И еще. Не стоит воспринимать вышесказанное как своеобразную апологию наркомании, хотя этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Возможно, что творческие люди как тип возникли в результате антропосоциогенеза как раз для освоения нового психологического опыта. Это лазутчики в Иное. Измененные состояния сознания – их специализация. Возможно, что творческий человек принимает наркотики как раз для того, чтобы другие могли этого не делать, чтобы удержать остальных от этого соблазна. Напомню, остроумный ответ одного художника, которого спросили: влияют ли наркотики на креативность? «Да, – сказал тот, – но только у художников!» В конце концов не столь ценны слова: «Невозможно добиться наркотического состояния, которое было бы лучше, чем естественно данное нам; все эти эйфории, галлюцинации, призрачные миры, грезы в конце концов полностью надоедают нам и демонстрируют такую свою убогость и ограниченность, что подлинным счастьем становится не иметь ничего этого, а просто смотреть на реальность, используя гениальный инструмент наших чувств, мыслей и сексуальных переживаний» («Змеесос»), сколь постскриптум: «Проверено. Егор Радов».
А начинающих писателей хотелось бы удержать от повторения жизненной траектории Радова. Возможно, что Егор не состоялся бы как самобытный писатель без наркотиков. Да, не употребляя наркотиков, не стать вторым Радовым. Но зачем нам еще один Радов?
Плазматический язык
И критики, и читатели первым делом обращают внимание на особый язык Радова. Вот лишь несколько неологизмов, которыми как арбуз семечками начинены тексты Радова: мандустра, Мудда, Богж, учёбище, педитация, яжеложство, судзуд, жочемуки. Причина их появления очевидна – описывать иные реальности, иные сферы опыта невозможно без употребления неологизмов, обозначающих явления, не имеющие земных аналогов. Секрет изготовления этих неологизмов и незабываемых картин трансцендентных реальностей писатель раскрыл в несколько ироничном контексте на страницах романа «Змеесос» – вот условия, которым они должны удовлетворять: «непонятность (подлинная таинственность), узнавание (какие-то слова понятны), окказиональность появления (только что придумал), маразматичность (бред сивой кобылы), несамостоятельность (похоже на заумные стихи), гениальность (гениально!)».
Не случайно многие пассажи Радова звучат как стихотворения в прозе с заумным подтекстом. Они напоминают огромную шаткую вазу, которую необходимо опрокинуть, чтобы нахлынул смысл. Такую прозу не читают, а смакуют. Я позволю себе объемную цитату из романа «Убить Членса» («Борьба с Членсом»), чтобы дать представление о мелодии радовской фразы:
«О, душа под душем озарений! Ты нага, гола, велика, как мое творение, мое вдохновение, тление. У этого предельного маразма казарм во мрази, у этого грязного базара баз без грязи, у этого одного последнего раза, есть высшая тайна – ваза без зрачка и знака, лаз зрения и мрака, воз знания и срока, роза милости, близости, тока, Бога. Но нет – только хлад, бред, град и гроб, горб, сор, сыр, путь, суть, склизь, близь, боль. Вина в вине твоя, спина у стены моя, свеча у мочи ее, любовь, как морковь. В этой единице есть десница, которой не спится, которая длится, она, как мокрица, она, словно спица, она вдовица, она ослица. Если затеял жизнь, то брызнь, но смерть, как хлеб, пуста, сера, дырчата и воздушна. Дырочка впереди, в дыре дыра дыры, и дно ее бездарно, безумно, бездельно. Вдень себя в дыру, пройди внутрь, вне, выйди в дырявый мир, оставь прошлый пир. Что же произошло?
Это некий ужас предельного, некий провал всего дельного, некое остолбенение энергий, мышц, нервических концов, некое выключение высших слов, кровяных гонцов, некое стояние пред чертой, некий финиш, некий вскрик: «Стой!», некая глупость в виде неожиданной гибели, некое взрывание нутра, убыль без прибыли. Тот, кто жил, теперь закатился, словно медяк под стол бытия, в гущу серых нитей гниения, аннигиляции, исчезновения, негации. Де-экзистенциализация субъекта в маргинальной ситуации, наркотизация его эссенции, поражение его интенции. Его субстанция тонет в тотальной акциденции, его витальная концепция рушится, утрачивая способность рецепции, налицо прекращение всяческой вентиляции, прощай, любовь, прощай, менструации! Да прольется над этим распадом слеза, да не будет адом будущая греза, да снимется все наносное, словно фреза, да пощадит одинокий дух великая божественная гроза! Просто так случилось, что так получилось, так приключилось, потому что, может быть, это и есть милость»…
Конечно, требуются некоторые усилия, чтобы продраться сквозь мелодичный можжевельник прозы Радова, но эти усилия вознаграждаются сторицей. Приведенный фрагмент – лишь малая часть своеобразной «Книги мертвых» Егора Радова, описывающей смерть от передоза прелестной земной девушки Инессы Шкляр и перевоплощение ее в таинственную трансцендентную тварь по имени Цмипкс. Полное описание этого перерождения занимает десяток страниц. Если «Убить Членса» – лучший роман Радова, то «Книга мертвых» (это мое обозначение этого фрагмента) – шедевр в шедевре. А вообще на страницах поэмы в прозе происходит длинная цепочка перевоплощений и трансформаций: Инесса Шкляр–Суу–Цмипкс–Цмипк–Цмип–Цми.
Я не знаю ни одного писателя (кроме, может быть, Станислава Лема), который лучше Радова описывал бы разнообразные неатропоморфные формы жизни и мышления. Он был необыкновенно одарен тем, что я называю «интуицией слизи», – ему потрясающе удавалось описание всего слизистого, медузоидного, пленчатого, створчатого, трубчатого, небулярного, плазматического. Сомневающимся предлагаю прочесть описание астральных медуз в романе «Убить Членса» – это насквозь гениальные страницы, пропитанные лимфой потустороннего.
Гностический сюжет
У каждого одаренного писателя есть излюбленные сюжеты (гений, в сущности, всю жизнь пишет одну и ту же книгу). Радов использует две сюжетные схемы и их комбинацию. Иными словами, его романы реализуют одну из трех возможностей: 1) блуждание по виртуальным мирам («Якутия», «Я/Или ад»); 2) поиски способа уничтожить мир или убить Бога («Суть»); 3) и то, и другое одновременно («Змеесос», «Убить Членса»).
Поиски способа уничтожить мир или убить Бога – это так называемый гностический сюжет (это центральный момент в учении переднеазиатских гностиков II–III вв. н.э.). Не слишком ли мы усложняем дело? Едва ли. В этом убеждает серьезность слов Радова, сказавшего в одном из интервью: «Религия – единственное, что для меня важно на самом деле. Литературу я воспринимаю для себя как религиозный долг. Может быть, я не так популярен, как хотелось бы, потому что собственно литература для меня – на каком-то десятом месте. Точнее, я всегда строю сперва некую философскую систему, а потом, согласно с ней, или даже против нее, пишу художественное произведение. Или же – произведение является методом выяснения для меня какого-нибудь религиозно-философского вопроса».
По иронии судьбы, неогностический роман Радова «Суть» (Ad Marginem, 2003) увидел свет уже после неогностического романа Владимира Сорокина «Лед» (Ad Marginem, 2002). Егор Радов сильно переживал из-за этого. Вот характерный фрагмент из его беседы с Дмитрием Гайдуком:
«– Многие сравнивают «Суть» с сорокинским «Льдом»...
– В тот же день, когда я принес «Суть» в редакцию, вышел «Лед». Мне вспомнилась история, как параллельно с Уотсоном и Криком, которые открыли ДНК, был один японец, так он повесился, потому что опоздал на месяц. Но потом я прочел «Лед» и понял, что это все-таки разные книжки. Мы как-то одновременно с Сорокиным пошли в одном направлении. Но некая обида так и осталась, что я оказался не первым».
Егор зря переживал. Именно он оказался первым. К гностическому сюжету Радов обратился гораздо раньше Владимира Сорокина, а именно в романе «Змеесос», который был написан в 1989-м, а издан в 1992 году. Напомню, сюжет этого дебютного романа Радова, принесшего ему заслуженные 15 минут славы. Во Вселенной царят два высших существа, или бога, носящие имена Лао и Яковлев. Высший бог, маячащий где-то на периферии сюжета, по-видимому, отошел от дел. В то же время человеческий мир замкнулся на себя, перестав зависеть от небес и божественных существ. Лао и Яковлев решают уничтожить этот мир, вырвав человеческие души из круга перерождений. Чтобы осуществить этот план, Лао приходится переродиться человеком (Яковлев выступает в качестве матери), – так в гностицизме божественный эон Христос является в обличье человека, чтобы освободить увязшие в тенетах материи души и уничтожить сотворенный мир.
В романе «Убить Членса» (вышел отдельным изданием в 1999 году, то есть опять же раньше, чем «Лед» Сорокина), как и в «Змеесосе», действуют два высших существа: Светик (Слад) и Светозавр. Маячит где-то высший бог – Членс (он же – Богж), отошедший от дел и пребывающий в наркотическом забытье под воздействием особого вещества, называемого в романе просто Соль. Светик стремится уничтожить Членса, но не может этого сделать собственноручно, поскольку ему противостоит равный по силе Светозавр. Для реализации богоубийства ему нужен «любой примитивный неявленный субъект, у которого, если его сделать высшим, могучим существом и придать ему достаточно святости, несомненно возникнет глухая тоска по разному животному дерьму, поскольку он не успел им вдоволь накушаться и насытиться». Таким субъектом становится душа скончавшейся от передоза Инессы Шкляр, превращающаяся после серии метаморфоз в трудновообразимое существо Цми.
Таким образом, если ранний Радов многими приемами обязан Сорокину, то не исключено, что к гностическому сюжету Сорокин обратился именно под влиянием Радова.
И есть одна чисто радовская идея, которую невозможно обнаружить ни у Сорокина, ни у какого другого писателя. Это идея о том, что абстрактные понятия, фактически платоновские идеи, представляют собой материальные объекты. Скажем, порошок, что-то вроде черной смолы, жидкого стекла, мясного студня (зельца) или друзы таинственных кристаллов. В беседе с Дмитрием Гайдуком Радов с полным основанием ставил это себе в заслугу: «Я сообщил, что суть – такая же конкретная вещь, как и все остальное». Когда директор издательства Ad Marginem Александр Иванов потребовал всюду заменить слово «суть» на слово «зельц», этим он чуть не обесценил произведение. К счастью, у Радова хватило твердости настоять на своем, а у Иванова – такта ему уступить.
Заключение
Скажу свое личное мнение: Радов – одна из ключевых литературных фигур рубежа второго и третьего тысячелетий. Он так и не достиг известности своей матери – замечательной поэтессы Риммы Казаковой, но если уж позволить себе не вполне корректное сравнение, то был несопоставимо более значительным литературным явлением. Ибо искать каких-то прорывов в трансцендентное у Риммы Казаковой – дело абсолютно безнадежное. Она была удивительно трезвомыслящий, практичный, жизнелюбивый человек, а Егор Радов – сплошная трангрессия в Бесконечность.
То, что писатель такой величины, как Егор Радов, не получил ни одной премии и в конце концов не смог даже найти издателя для своего последнего романа – это приговор текущему литературному процессу. Ибо писатель отнюдь не сам собой занимает уготованное ему свыше место, это задача литературной критики – воздать каждому по заслугам. Но кому из современных критиков это по силам? Наталье Ивановой, за неделю до смерти Радова назвавшей имя этого писателя «слегка протухшим»? (Как имя может протухнуть? Или имеются в виду тексты – скажем, был гениальный текст, но со временем протух? Абсурд какой-то!) Или высоко ценимый мной Лев Данилкин, в рецензии на роман «Суть» сравнивший Радова с «дохлой склярией»? Или иные мои коллеги, разводящие в своих пробирках редчайшие сорта плесени? Кто вытрясет перину словесности?
http://exlibris.ng.ru/subject/2009-04-09/1_radov.html |