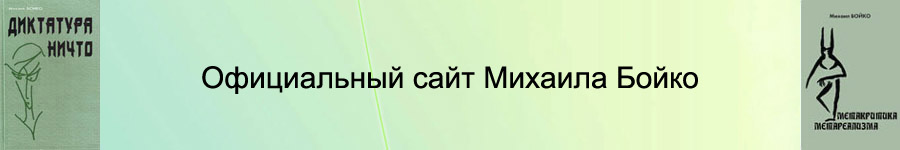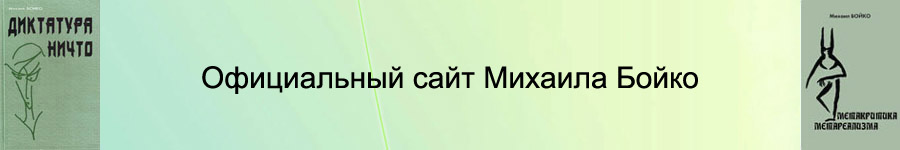Минус биография Минус биография
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Мамлеевым, – это его особый, словно бы обращенный внутрь взгляд. Этот взгляд присутствует на самых ранних его фотографиях. Психолог сразу скажет, что это признак крайней и, по-видимому, врожденной интроверсии. Вся жизнь такого человека сконцентрирована в его внутреннем мире, а внешний мир для него – что-то вроде надоедливой помехи, вроде шума за окном или мельтешения теней на стене.
Можно посочувствовать будущим биографам Мамлеева. У обычного человека можно проследить становление его личности в связи с внешними условиями и жизненными обстоятельствами, у крайнего интроверта – нет. Трудно представить жизнеописание Мамлеева, написанное, например, в духе серии ЖЗЛ.
Можно, конечно, проследить внешние обстоятельства его жизни, но это не будет подлинной биографией. Подлинная биография Мамлеева – это летопись его внутренней жизни, история вынашивания и эволюции его идей. Но об этих процессах мы можем судить только по творчеству писателя, которое, естественно, не является непосредственным отражением его внутреннего мира. Проза Мамлеева – это сложный, многократно прошедший через рефлексию, до отказа напичканный готовыми смыслами продукт. Он свидетельствует лишь о том, что гипертрофированный внутренний мир является для Мамлеева источником некоего опыта, который писатель всю жизнь более-менее успешно или тщетно пытается выразить в словах. Но познавательная ценность такого «открытия», конечно, невелика.
Более того, есть основания полагать, что ничего не изменилось бы, даже в том случае, если бы Мамлеев написал автобиографию. Скорее всего мы получили бы не подлинную историю внутренней жизни, а некую отцентрированную, отретушированную и сбалансированную схему. Причем это не было бы виной писателя. Это было бы следствием особенности его мышления и памяти, а именно – их беспощадности к частностям, ибо Мамлеев относится к числу писателей, у которых способность к обобщению далеко превосходит способность к детализации. Чтобы в этом убедиться, можно прочитать десятки интервью Мамлеева. Из них мы почти ничего не узнаем о генезисе его личности, зато узнаем очень много о его итоговом мировоззрении, которое будет изложено обкатанными, как галька, доведенными до совершенства и не меняющимися от интервью к интервью словесными формулами.
Итак, мы не будем останавливаться на внешней канве жизни писателя. Упомянем лишь, что его отец был профессором психиатрии и погиб во время сталинского террора. Мать по образованию эконом-географ.
Юрий Мамлеев родился 11 декабря 1931 года. В 1956 году окончил Московский лесной институт . Вплоть до эмиграции зарабатывал на жизнь, преподавая по вечерам два-три раза в неделю математику в техникумах и школах рабочей молодежи.
Кстати, в беседе с автором этой статьи Мамлеев отрицал влияние на него преподавания математики, но необходимо отметить некоторую «математичность» стиля и мышления писателя. Она особенно заметна в его философских работах – «Судьбе бытия» [1] и «России Вечной» [2], которым свойственна почти предельная сухость языка, организация текста по евклидовой схеме «аксиомы – доказательства», стремление к стерильной безупречности формулировок. Это позволяет предположить, что Мамлеев не был столь уж нечувствителен к эросу математики, как, может быть, сам искренне полагает.
В это время вокруг Мамлеева складывается эзотерический кружок, известный как «Южинский». Часто говорят, что он зародился в читальном зале Ленинской библиотеки, вернее, даже в курилке, в которой обсуждались книги по философии, мистике, эзотерике, находившиеся тогда еще в открытом доступе. Постепенно стали собираться у Мамлеева. По словам Игоря Дудинского, «просто он жил ближе всех» [3].
А жил Мамлеев в двухэтажном деревянном бараке в Южинском переулке (ныне Большом Палашевском). Отсюда название кружка. В одной из коммунальных квартир этого барака писатель занимал две смежные комнаты. Именно в этих тесных комнатках, заваленных книгами, «заседали» участники эзотерического кружка. Не обходилось без выпивки, изнурительных споров и всевозможных эксцентриад. Почти все постоянные участники этого диссидентского салона были личностями незаурядными и в той или иной мере состоялись. Ядро образовывали Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Гейдар Джемаль, Валентин Провоторов, Владимир Ковенадский, Игорь Дудинский, Владимир Степанов, Лариса Пятницкая. Заходили в «салон» Венедикт Ерофеев, Владимир Буковский, Анатолий Зверев, Александр Харитонов, Леонид Губанов, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Александр Проханов и другие известные личности [4].
В это время Юрий Мамлеев часто выступает с чтением своих произведений. Его рассказы, хотя и отсутствовали в самиздате, имели широкое хождение в рукописях.
В 1974 году Юрий Мамлеев вместе с женой эмигрировал и в США . По словам самого писателя, поводом послужила невозможность опубликоваться в СССР. Расхожую версию о якобы произведенном в его комнатах обыске и об изъятии компрометирующих рукописей Мамлеев отрицает.
В США Мамлеев работает в Корнельском университете (город Итака, штат Нью-Йорк). В 1983 году переезжает во Францию . Преподает русскую литературу и русский язык в парижском Институте изучения восточных цивилизаций и Медонском центре изучения русской культуры. Выступает Мамлеев и в русской эмигрантской прессе (в альманахе Михаила Шемякина «Аполлон 77», в журналах «Гнозис» и «Эхо»), но не впутывается в политические игры.
В 1989 году произведения Мамлеева были впервые изданы на родине. В 1993 году писатель возвращается из эмиграции. К настоящему времени в России вышло более 20 книг Мамлеева.
Эмоциональный дрейф
Если писателей можно разделить на две условные категории – «всегдастов» и «тогдастов», то Мамлеев – это типичный всегдаст. Что это значит?
Творчество всегдастов практически невозможно периодизировать. Оно отличается потрясающей цельностью и монолитностью. Складывается впечатление, что писатель-всегдаст всю жизнь пишет одно и то же произведение, обдумывает один и тот же весьма ограниченный набор мыслей и тем.
Напротив, для тогдастов характерна длительная эволюция взглядов с одним или несколькими изломами – судьбоносными потрясениями такой силы, что нам часто точно известно, когда и где они произошли. Оттого писателям-тогдастам свойственно возвращаться к некоему моменту в прошлом – рубежу, служащему водоразделом их жизни. Типичные тогдасты – Федор Достоевский (Семеновский плац) и Лев Толстой (Арзамасский ужас).
Творчество Мамлеева практически невозможно периодизировать. Основные его темы и художественные приемы присутствуют уже в самых ранних его вещах и в дальнейшем остаются неизменными – происходит лишь их совершенствование, углубление и адаптация к другим жанрам (например, к драматургии). Это хорошо видно, если сравнивать самый первый роман Мамлеева «Шатуны» с написанным почти сорока годами позже романом «Другой». Условно говоря, каждая книга Мамлеева – это перестановка мебели в уже отстроенном здании, а не закладка нового корпуса.
Скажем, если бы не указания самого Мамлеева, мы бы никогда не могли сказать, когда написан тот или иной рассказ. Если прочесть их всем скопом, то потом их будет трудно припомнить по отдельности, ибо они сливаются в некий обобщенный мамлеевский рассказ. Этим объясняются частые жалобы, что все тексты Мамлеева, как мидии, одинаковы на вкус.
Даже выезд из СССР не образует сколько-нибудь четкого рубежа в творчестве Мамлеева. Эмиграция практически не отразилась на его текстах, разве что привела к появлению цикла «Американских рассказов». Но все, что есть в этих рассказах американского, – это место действия. Проще говоря, чтобы написать эти рассказы, конечно, нужно быть Мамлеевым, но совсем не обязательно побывать в США.
Но если никаких изломов и водоразделов в творчестве Мамлеева не обнаруживается, то еле заметный дрейф наблюдается. Причем это не идеологический дрейф, а скорее эмоциональный. Произведения Мамлеева становятся все радужнее, благостнее, светлее.
В ранних произведениях Мамлеева присутствует момент смакования жестокости, патологии, извращенной реакции. Вот характерный фрагмент из рассказа «Смерть рядом с нами» (1962):
«Наконец, утомившись, я прикорнул на пустынном, одичалом дворике у досок. Кругом валялись кирпичи. И ни одной души не было. Вдруг около меня появилась жалобная брюхатая кошка. Она не испугалась, а прямо стала тереться мордой о мои ноги.
Я чуть не расплакался.
– Одна ты меня жалеешь, кисынька, – прошептал я, пощекотав ее за ухом. – Никого у меня нет, кроме тебя. Все мы если не люди, то животные, – прослезился я. – И все смертные. Дай мне тебя чмокнуть, милая.
Но вдруг точно молния осветила мой мозг, и я мысленно завопил:
– Как!.. Она меня переживет!.. Я умру от рака, а эта тварь будет жить... Вместе с котятами... Негодяйство!
И недолго думая я хватил большим кирпичом по ее животу. Что тут было! Нелепые сгустки крови, кишок и маленьких, разорванных зародышей звучно хлюпнули мне по плащу и лицу. Меня всего точно облили. Ошалев, я вскочил и изумленно посмотрел на кошку.
Умирая, она чуть копошилась. Какой-то невзрачный, как красный глист, зародыш лежал около ее рта. От тоски у меня немного отнялся ум.
Быстро, даже слегка горделиво, весь обрызганный с головы до ног, я вышел на улицу» [5, С. 38].
В поздних произведениях Мамлеева всевозможной «чернухи» – кошачьих кишок, некроделики, онанирующих младенцев, липнущих к окнам мертвецов и так далее – заметно поубавилось.
Разумеется, эта эмоциональная метаморфоза не ускользнула от самого Мамлеева. В этой связи заслуживает внимания рассказ «Основные тайны» (1977). Его герой, Николай Рязанов, пожелал узнать «самое глубокое и тайное». Некий старичок в лесу указал ему дверку («то ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе»), за которой он обретет то, что ищет. Вот что за этим последовало: «И Николай пошел. И сразу черный ужас заморозил его. Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, как у собаки, красный язык. Но он шел и шел, точно охваченный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким течением. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте или отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как латы» [6, С. 569–570].
Однако недалеко от дверки некая сила отбросила Николая куда-то в сторону. С тех пор герой сильно изменился – стал тяготеть только к «радужным метафизическим теориям» и настойчиво объяснять своим друзьям, что «в целом все хорошо», во всяком случае в «конечном итоге». Это лишь предположение, но, возможно, в этом рассказе есть нечто автобиографическое.
Есть и более поздние свидетельства. В беседе с Верой Цветковой писатель сообщает: «Мой «черный» роман «Шатуны» на многих действует как катарсис. Чтобы прийти к свету, надо пройти тьму. В моих последних романах «Блуждающее время» и «Мир и хохот» – уже полный баланс: нет нелепой розовости, конечно, но уже есть свет» [7].
Заметим, что свежий роман Мамлеева «Наедине с Россией» [8] выполнен почти исключительно в светлых «райских» красках [9].
Мамлеев-писатель
Очень многие литературные критики отказывают Мамлееву в праве считаться знаковым и, во всяком случае, значительным писателем. При этом, как правило, отмечаются «провалы, недопустимые не то что для профессионального писателя, но для любого человека, мало-мальски смыслящего в законах литературы; удручающая скудость фантазии и убийственная корявость языка» [4].
Действительно, язык не является для Мамлеева самоцелью. В его произведениях немного самоценных метафор и других стилистических украшений. Но, строго говоря, писателя можно считать знаковым для той или иной литературной эпохи, если в его творчестве реализуется одна из трех возможностей: 1) новый язык; 2) новый взгляд; 3) новый герой. Посмотрим, как обстоит дело с новизной взгляда Мамлеева и новизной его героя.
Как правило, действие произведений Мамлеева происходит в Москве или ближнем Подмосковье. Можно спорить, насколько правдоподобно они отражены. Одно несомненно – такой Москвы и такого Подмосковья мы до Мамлеева в литературе не видели. Неудивительно, что Мамлеев – один из немногих новейших писателей, чье имя при жизни стало нарицательным.
Что же такое «мамлеевщина»? Это особый неизменный фон рассказов и романов Мамлеева. Если это Москва – то, как правило, коммунальные квартиры, морги, пивные, кладбища или пивные возле кладбища, как в «Тетради индивидуалиста» [5, С. 199–223]. Если это новостройки – то «гноящиеся людьми», как в рассказе «Великий человек» [6, С. 426]. Если улица – то непременно «замороченная нелепо безобразными домами», как в романе «Шатуны» [6, С. 11]. Если Подмосковье – то это грязная электричка и запущенные дачи, в которых собираются отталкивающие эксцентричные личности.
Особенно беспощадно Мамлеев описывает обывательскую жизнь. Быт в его изображении – это не человеческое-слишком-человеческое, а что-то, как сказал бы Виктор Шкловский, «человячье». Это бессмысленное копошение, навевающее гадливость и скуку. Государство и так называемая общественная жизнь в произведениях Мамлеева отсутствуют напрочь. Мы чаще всего не знаем, как его герои зарабатывают деньги.
Зато мы погружаемся в зыбкий мир, полный бытенебыти и блудожути. В этом мире полно эзотерических кружков и состоящих в них странных персонажей. И следует признать, что мамлеевский персонаж как тип – абсолютно нов.
Обобщенного героя Мамлеева, воспользовавшись выражением самого писателя, можно назвать «эзотерическим занырой». Он проводит время в оккультном запое, размышляя об инаковостях, загробностях и запредельностях. Но в отличие от любознаек, которые стоят перед витриной потустороннего, не входя в саму лавку, эзотерический заныра всеми силами стремится проникнуть в запретные миры и измерения. Для этого он использует тот или иной нетривиальный способ. В романе «Шатуны», например, Федор Соннов вспарывает людям животы, Извицкий практикует эго-секс, Падов идет по пути предельного падения, Глубев проповедует некую «религию Я» и так далее. Чаще всего этот способ вытекает из некой Суперидеи, которую герой бережно лелеет и высиживает, как наседка яйцо, и постепенно доводит до нескольких отпугивающих своей простотой положений.
Таким образом, в творчестве Мамлеева присутствует и новый авторский взгляд («мамлеевщина»), и новый герой («эзотерический заныра»). Этого достаточно, чтобы говорить о Мамлееве как о знаковом и значительном писателе.
Мамлеев-философ
Мамлеев-писатель неотделим от Мамлеева-философа. Как мы уже говорили, все его творчество отличается особой цельностью. Художественные и философские тексты Мамлеева имеют общий источник, это скорее два способа выражения одного и того же содержания. Именно поэтому все художественные приемы Мамлеева тут же получали философское обоснование, и наоборот, отстаиваемые философские тезисы художественно обыгрывались, проверялись на прочность в ходе художественно-метафизического эксперимента.
Скажем, нам известно, что Мамлеев с детства разрабатывал некую «религию Я» – и в романе «Шатуны» мы видим целую плеяду учеников некого Глубева, придумавшего «религию Я». Правда, сам Глубев на страницах романа не появляется (и понятно, почему – Мамлееву пришлось бы описывать самого себя), но именно он является, в сущности, главным героем романа, потому что именно его идеи, как невидимые пружины, приводят героев романа в движение.
Еще до эмиграции Мамлеев разработал оригинальное мировоззрение и лишь затем обнаружил, что оно очень близко к адвайта-веданте и интегральному традиционализму Рене Генона. Это мировоззрение Мамлеев изложил в трактате «Судьба бытия» [1], написанном в 60-е годы, а напечатанном лишь в 1993 году («Вопросы философии», № 10–11).
«Судьбу бытия» (как и другую философскую работу писателя – «Россию Вечную» [2]) вряд ли можно отнести к академической философии. Почему Мамлеев избрал достаточно вольную, неакадемическую форму изложения своих идей? Дело, по-видимому, в том, что в центре внимания Мамлеева лежат метафизические вопросы, а метафизика и современная академическая философия соприкасаются лишь постольку, поскольку вторая представляет собой упадок первой.
Вторая особенность философских работ Мамлеева – их общедоступность. Он старательно избегает того, что Вальтер Дубислав назвал «злоупотреблением словами, специально для этого созданными», терминологических нагромождений, которыми часто грешат академические философы.
Третья особенность – предельная четкость, однозначность, рельефность формулировок при отсутствии авторитарного навязывания своей позиции. Что сдерживает Мамлеева? По-видимому, понимание ограниченности любого человеческого знания и неприспособленности человеческого языка для описания последних сущностей, иных миров и высшей реальности.
Наконец, последняя особенность, на которую стоит обратить внимание, – это подчеркивание писателем врожденности своего мировоззрения. По многочисленным заверениям Мамлеева, это мировоззрение было обретено им еще в ранней юности благодаря мистическому предвосхищению, или, если воспользоваться термином Генона, «интеллектуальной интуиции». В основных чертах оно осталось неизменным и с тех пор лишь уточнялось и дорабатывалось. Для обозначения таких врожденных мировоззрений Мамлеев вводит термин «утризм», образованный от древнерусского корня «утрь» (от этого корня происходят слова «внутри», «утроба»). Заметим, что врожденное мировоззрение – это далеко не редкий случай, и «всегдастам» вообще свойственно, подобно Афине Палладе, рождаться во всеоружии.
Мы не будем вдаваться в нюансы метафизической доктрины, изложенной Мамлеевым в «Судьбе бытия». Для нас имеет значение, что в послесловии к этой работе – «Метафизика и искусство» – Мамлеев ввел термин «метафизический реализм» для обозначения открытого им творческого метода и нового литературного течения.
Метафизический реализм
В «Метафизике и искусстве» Мамлеев пытается показать, что «настоящее искусство» может быть только 1) реалистическим и 2) метафизическим.
Вот как писатель аргументирует первый тезис: «Настоящее искусство как таковое всегда имеет дело с подлинным, с реальным и обладает способностью проникать за поверхность явлений. Правда, в искусстве может иметь значение и чисто субъективное начало (ибо наши переживания, фантазии – тоже своего рода реальность), но это не лучший вариант искусства. Поэтому метафизический реалист меньше всего должен быть романтиком; он должен быть сверхреалистом, что, конечно, включает, как начальный момент, глубокое знание видимой жизни (гораздо более глубокое, чем требовалось, например, для обычного реалиста XIX века)» [1, С. 101].
А вот как обосновывается второй тезис: «Совершенно очевидно, что банальный, «видимый» человек не может представлять интереса для писателя-метафизика. Кроме того, такой человек (то есть социально-психологическая сторона человека) прекрасно описан в литературе XIX века. Кажущаяся сложность такого человека является богатством на недуховном уровне, то есть на уровне душевных переживаний, и по существу, лучшее, что могла сделать такая литература, – это показать ничтожество такого человека, что она блестяще и сделала. Привязанная иногда к такому человеку, к таким ситуациям философия являлась чаще всего просто интеллектуальным обыгрыванием житейских ситуаций и не более напоминала философию, чем обычная человеческая речь. Разумеется, к метафизике все это не имело никакого отношения. Однако забавно, что иногда считалось, будто здесь речь идет о духовных проблемах, но нельзя забывать, что слова в наше время обесценились, стали употребляться для обозначения реальностей низшего порядка, не имеющих отношения к прежнему значению слова» [1, С. 104].
По мнению Мамлеева, после того как человек был достаточно исследован с социально-психологической стороны, стала очевидна нелепость продолжения такого подхода, его исчерпанность и неактуальность. Таким образом, метафизический реализм – это то, что дополняет половинчатый реализм, или «недореализм» (это, в частности, критический реализм, соцреализм, психологизм, натурализм), игнорирующий метафизическое измерение человеческой личности, до реализма в полном смысле этого слова.
Насколько нов предложенный Мамлеевым метод? В эссе «О Достоевском» Мамлеев признает, что хотя метафизикой были наполнены произведения древней и средневековой литературы, но «особым образом, далеким от современного восприятия» [10, С. 13]. В своих эссе Мамлеев без особого труда устанавливает преемственность своего подхода с художественными методами Гоголя, Гончарова, Достоевского, Сологуба, поэтов Золотого и Серебряного века. Особое внимание уделяется, конечно же, Достоевскому, которого Мамлеев считает самым крупным русским писателем и своим прямым предшественником. В этой связи заслуживает внимания конгениальное свидетельство Николая Бердяева в книге «Миросозерцание Достоевского» (1929). По его мнению, Достоевский «не был реалистом в том смысле, в каком наша традиционная критика утверждала у нас существование реалистической школы Гоголя. Такого реализма вообще не существует, менее всего был им Гоголь, и уж, конечно, не был им Достоевский. <…> Достоевский не может быть назван и в смысле психологического реализма. Он не психолог, он – пневматолог и метафизик-реалист. <…> Если и можно назвать Достоевского реалистом, то реалистом мистическим» [11, T .2. С. 38, 40].
Но чем различаются творческие методы Достоевского и Мамлеева? Мамлеев разъясняет: «…нужно отметить, что, с моей точки зрения, произведения Достоевского слишком антропологичны» [10, С. 14]. Антропоцентризм русского классика подчеркивали и многие другие исследователи, в частности, достоевсковед Федор Евнин, в статье «Реализм Достоевского» утверждавший, что Достоевский «далеко раздвинул рамки его (человека. – М.Б. ) хотений и чувств, сокрытые в нем возможности зла и возможности добра» и его главная тема – «человек и человеческое; личность в ее потенциях и борениях, в ее отношениях к себе подобным, к обществу, к миру» [12, С. 449].
Отличие от художественного метода Достоевского от художественного метода Мамлеева состоит в том, что метафизический реализм распространяется на состояния, которым нет аналогов в материальном мире, на существа иной, высшей или низшей, нечеловеческой природы, на невидимые или запредельные миры.
Конечно, с термином «метафизический реализм» далеко не все так просто. Смущает уже слово «реализм» в этом термине, за что Мамлеева неоднократно упрекали. И небезосновательно. Если Мамлеева и можно назвать «реалистом», то только в том смысле, в каком искусствоведы, например, говорят о «реализме древнерусской иконы».
Самое простое объяснение появления этого слова в составном термине – стремление создать полновесную альтернативу соцреализму. В беседе с автором этой статьи Мамлеев отверг эту версию и, в частности, сказал, что соцреализм был ниже порога его восприятия, так что, вводя новый термин, он больше ориентировался на критический реализм XIX века [13]. Но кое-какие соображения указывают, что именно с соцреализмом Мамлеев стремился померяться силами. Возможно даже, что термин «метафизический реализм» возник в результате критики соцреализма с той же позиции, с какой в следующем фрагменте романа «Мир и хохот» критикуется октябрьская революция: «Разве семнадцатый год – это революция?.. Мертвые не восстали, сознание не расширилось. Великий поэт написал: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Оно, конечно, приятно, но уж больно противник ничтожный <…>
– А вот если переделать строчки, вот так, к примеру: «Мы на горе демиургам мировой пожар раздуем!» – это совсем другое дело… » [14, С. 121].
Вторая трудность состоит в том, что очень сложно доказать существование метафизического реализма как отдельного литературного направления, такого как натурализм, романтизм и так далее. Легко продемонстрировать, что любое художественное произведение имеет какой-то метафизический смысл и может быть прочитано на нескольких уровнях. Ск ажем, роман Гончарова «Обломов» может быть проинтерпретирован как обличение привилегированного класса России XIX века (социальный уровень), как психологическая драма (психологический уровень) и как изображение реализации в современных условиях древнего принципа «недеяния» (метафизический уровень).
Таким образом, метод Мамлеева – это некая техника письма, при которой метафизический уровень выходит на первый план, и дополняющий эту технику способ прочтения художественного произведения, декодирования, при котором первостепенное внимание уделяется метафизическому смыслу. Очень многих недоразумений можно избежать, если всякий раз, когда упоминается метафизический реализм, понимать, что речь идет еще не о литературной школе, а об определенном способе прочтения, интерпретации, декодирования текста – о новой «оптике», с помощью которой может быть прочитан, интерпретирован, декодирован абсолютно любой художественный текст.
Очевидно, что таких способов декодирования существует множество, но, поскольку человеческое мышление тяготеет к «трихотомии» и оперированию «триадами» (это имеет больше отношения к мнемотехнике и особенностям человеческого мышления, чем к свойствам вещей окружающего мира), то можно выделить три основных подхода: социальный, психологический и метафизический. Это деление, очевидно, соответствует традиционному делению мира на высший, средний и низший, а человека – на тело, душу и дух.
Художественные приемы
Как, наверное, у любого писателя, у Мамлеева есть излюбленные приемы. Многие из них весьма специфичны и редко используются другими авторами, поэтому было бы неправильно в этом очерке обойти их стороной. Заметим, что заслуга Мамлеева состоит еще и в том, что он не только отработал эти приемы в прозе, но и показал, как их можно применить в драматургии.
Всего мы остановимся на трех приемах, которые можно условно назвать «метафизический саспенс», «трансцендентный МакГаффин», «непропорциональность причины и следствия, мотива и действия».
1. Метафизический саспенс. Это наиболее часто используемый Мамлеевым прием. Напомню, что в английском языке suspense – беспокойство, приостановка, «подвешенное состояние» (от латинского глагола suspendere – «подвешивать»). В киноискусстве этим словом обозначают «нарастание напряженного ожидания» – особое состояние беспокойства, тревоги, без остатка поглощающее зрителя при просмотре фильма. Одним из главных принципов создания саспенса является оттягивание того момента, когда произойдет ожидаемое событие.
Метафизический саспенс – это ожидание прямого вторжения Иного в наш мир. Это вторжение может нести гибель или спасение, но в любом случае разрешение волнующих героев вопросов. Все герои ждут контакта с Иным, беспрерывно говорят о нем, а он все откладывается и откладывается.
Возьмем, к примеру, роман «Мир и хохот». Интригующая завязка: пропал человек, причем прямо из супружеской постели. Его жена Алла видит тень мужа в зеркале, а потом находит записку: «Меня не ищи. Живи себе спокойно. И не заглядывай в зеркало. Был твой Стас» [14, С. 11]. Розыски не дают результата. Даже экстрасенсы отказывают ей в помощи. Говорят, что в этом исчезновении задействованы силы столь чудовищные, что человеческое вмешательство бессмысленно. Алла поднимает всех своих знакомых по эзотерическим кружкам. Посвященные говорят, что в высших мирах происходят грандиозные процессы, от исхода которых зависит судьба не только ее мужа, но, может быть, и всего человечества. Ком всевозможных версий, нестыковок и откровенной чертовщины вырастает до невероятной величины…
Что-то похожее происходит в «Московском гамбите». Таинственный посвященный ищет кандидатов для приобщения к высшему эзотерическому знанию. Отбирает несколько человек. Проводит с ними подготовительные беседы, устраивает испытания и метафизические экзамены. Поддерживает в непрерывном напряжении. Герои ощущают себя на пороге невиданных открытий. Проверки следуют одна за другой. Роман переваливает далеко за три четверти объема, а дело как будто не сдвигается с места...
2. Трансцендентный МакГаффин. Воспользуемся другим термином из американского кинематографа. Что такое МакГаффин? Это секрет, тайна, вокруг которой закручивается сюжет и которая так и остается нераскрытой для зрителя. Судя по всему, этот термин ввел в теоретический обиход Альфред Хичкок, позаимствовав его из анекдота о двух пассажирах. Один из них спрашивает: «Что это там, на багажной полке?» Второй отвечает: «О, да это МакГаффин». – «А что такое МакГаффин?» – «Ну как же, это приспособление для ловли львов в горной Шотландии». – «Да, но ведь в горной Шотландии не водятся львы». – «Ну, значит, и МакГаффина никакого нет!» Все правильно, логическая цепь замкнулась. Но после этого рассуждения мы возвращаемся к началу. Никакого МакГаффина, может быть, и нет, но что-то же на полке есть. И мы хотим знать, что это. МакГаффином, например, является содержимое багажника машины в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение».
Творчество Мамлеева напичкано разнообразными МакГаффинами, но это не материальные предметы, а трансцендентные сущности. Вернемся к роману «Мир и хохот», завязку которого мы чуть выше рассказали. Заканчивается все тем, что пропавший герой вдруг находится, но не помнит, что с ним было. И непонятно, что же произошло – то ли его захватил катаклизм в высших мирах, то ли его посетило временное умопомрачение. Действительно ли произошло вторжение Иного или все дело в расшатанной психике героя? Ответа нет. И однако что-то же все-таки произошло, раз человек несколько месяцев отсутствовал. Суета жены и людей, вызвавшихся ей помогать, бесконечные версии, предположения, встречи и консультации, которыми переполнены страницы романа, ничего не проясняют. Действительно важное действие – бурление в запредельных мирах – остается за рамками романа. Оно происходит «сверх и помимо нас», как однажды выразился Юрий Мамлеев [15]. Сверх и помимо – и читателей, и персонажей.
Аналогично в романе «Московский гамбит» после многочисленных проверок и испытаний, когда герои ощущают себя на пороге невиданных открытий, им объявляют, что они не прошли отбора. И читатель остается в недоумении. Действительно ли герои не прошли испытаний? Или они стали жертвой шарлатана?
3. Непропорциональность причины и следствия, мотива и действия. Этот прием заключается в том, что герой масштабными высшими метафизическими соображениями обосновывает какое-нибудь мелкое пакостное действие или, наоборот, из незначительного события делает совершенно несоразмерные обобщения. Мы помним, как в рассказе «Смерть рядом с нами» герой, задумавшийся о смертности всего живого, в результате убивает ни в чем не повинную кошку. А вот пример обратного приема из раннего рассказа «Яма» (1965):
«Между прочим, меня всегда интересовало самоубийство из-за пустяка: вот, допустим, вам наступили на ногу в троллейбусе, а вы – из абсолютной любви к себе – не стерпели, пошли и повесились где-нибудь в подворотне напротив троллейбусной остановки. Ведь отомстить самому наступившему – это далеко не абсолютно, а скорее даже наивно, ведь факт вашего «ранения» не исчезнет, и мировой закон, по которому вам могут причинять боль, тоже не исчезнет, если даже вы застрелите «обидчика». Поэтому когда вам наступят на ногу – рекомендую повеситься, и как можно скорее, с порывом, чтоб опротестовать все мировые и даже физические законы. Из иступленной любви к себе-с» [6, С. 460–461].
Замечу, что очень часто этот прием использовал в своих ранних рассказах Владимир Сорокин, и здесь, конечно, не обошлось без влияния Юрия Мамлеева.
Россия Вечная
Еще одна особенность творчества Мамлеева – то, что большинство его произведений несут сильный отпечаток «трансцендентного патриотизма». Мысли, изложенные им в работе «Россия Вечная» [2], вкратце таковы. Простая привязанность к определенной культурной, социальной и географической среде обитания есть низшая форма патриотизма. Подлинной родиной человека является некая метафизическая реальность. Трансцендентный патриотизм для русского человека – это привязанность к России как отражению соответствующей метафизической реальности. Эта метафизическая реальность, считает Мамлеев, настолько сильна, что должна продолжать свое воплощение и в других мирах.
Наиболее сжато теорию «множественности космологических Россий» Мамлеев излагает в автоинтервью: «…необходимо напомнить, что (согласно принципам восточной метафизики) любая нереализованная возможность, несущая в себе метафизический смысл, неизбежно должна реализоваться, ибо для Абсолюта в его бесконечных манифестациях нет различий между возможностью и реализацией. Иными словами, русская идея, поскольку более или менее детерминированный ход человеческой истории, с ее началом и концом, узок для нее, неизбежно должна реализовываться в иных бесчисленных сферах и планах Космоса (в учении же о космосе и Абсолюте мы опираемся на принципы индуистской метафизики, наиболее полной из существующих).
Следовательно, в Космосе (в его разных пространственно-временных планах) должен быть аналог земной России (точнее, аналоги ее), причем эта космологическая Россия должна быть связана с существами, являющимися метафизическими аналогами человека.
Собственно, сама историческая Россия с этой точки зрения является одним из вариантов всей космологической России, существующей как совокупность «конкретных» Россий и как их подоснова. Следовательно, под космологической Россией должны пониматься также и те элементы в исторической России, которые несут в себе космологические возможности. Кроме того, из самых недр России возможно некоторое «космологическое строительство»…» [16, С. 456–457].
В одну из таких «космологических» Россий совершает астральное путешествие герой романа Мамлеева «Наедине с Россией» [8].
Но какую метафизическую реальность воплощают земная «историческая» Россия и ее космологические двойники? Мамлеев считает, что особое качество России – стремление к выходу за пределы нашего мира и вообще за любые границы. Отсюда особый характер русской тоски – грусти о невозможном, аналога которой не существует у других народов. Этим порывом пронизана вся русская культура.
Что же лежит за всеми возможными границами, за пределами высших и нижних миров и даже Абсолюта? Отличие мировоззрения Мамлеева от традиционализма, например, в его геноновской версии в том, что, по его мнению, есть нечто лежащее за Абсолютом или Богом, а именно Бездна. Не случайно в первой главе романа «Другой» поезд дальнего следования делает остановки «Преисподняя», «Ад ничтожных душ», «Рассеянные во Вселенной», «Обители» и устремляется к станции «Бездна».
По мнению Мамлеева, Россия – это щель в Бездну, и сколько этих щелей – столько космологических Россий. Таким образом, суть трансцендентного патриотизма для русского человека в любви к России, как своеобразному посреднику между плотным миром, Абсолютом и непостижимой, лежащей за всеми возможными пределами Бездной. Идею Бездны Мамлеев называет «Последней Доктриной», ибо, по его словам, «дальше идти некуда» [16, С. 454].
Заметим, что именно «Последнюю Доктрину» Мамлеев считает наиболее оригинальной частью своего учения и утверждает, что аналогов ей нет в мировой традиции. На наш взгляд, это не совсем так. Генеалогия идеи Бездны прослеживается очень хорошо, по крайней мере вплоть до Якоба Бёме и более ранних немецких мистиков. Другое дело, что, как и полагается типичному всегдасту, Мамлеев мог прийти к идее Бездны самостоятельно. По словам самого Мамлеева, впервые идея Бездны, то есть «Внереальности по ту сторону Абсолюта», возникла в его рассказе «Боль № 2», написанном в 1965 году [16, С. 454, сноска].
С учетом этого нам кажется, что наиболее оригинальным у Мамлеева является все-таки учение о космологических Россиях.
Заключение
Теперь мы можем ответить на вопрос, поставленный в начале статьи. По нашему мнению, метафизический реализм в отличие от концептуализма, постмодернизма, нового реализма не стал отдельной литературной школой, потому что любое художественное произведение может быть проинтерпретировано как повествование о метафизической реальности. По-видимому, не существует «метафизического реализма» как самостоятельного литературного направления, но есть некая универсальная «оптика», позволяющая высвечивать в произведении его метафизический смысл.
Но если не существует метафизического реализма как литературной школы, то ради чего весь этот сыр-бор? Что ж, как шутил Сигизмунд Кржижановский: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно быть, и пьес-то этих самых…» [17, С. 17]. Также, возможно, обстоит дело и с метафизическим реализмом. В любом случае дискуссия об этом термине имеет огромное методологическое значение и способствует прояснению очень многих моментов литературной теории.
В чем же заключается самая главная заслуга Юрия Мамлеева? По нашему мнению, в предельно четком разграничении психологического и метафизического способов интерпретации текста. Социальный аспект произведений литературная критика научилась отдельно анализировать еще в первой половине XIX века. Психологический аспект в русской литературе был акцентирован благодаря отечественным и зарубежным исследователям во второй половине XIX – начале XX века. Но метафизический аспект долгое время пребывал в тени психологического и недостаточно принимался во внимание. После Мамлеева сложно отрицать, что любой художественный текст имеет три основных смысловых измерения: социальное, психологическое и метафизическое.
В 60-е годы прошлого века в организованном им полуподпольном кружке Мамлеев разорвал с рутинными способами видеть, мыслить и писать. Его идеи и произведения повлияли на целый ряд писателей, без знакомства с творчеством которых, по нашему мнению, невозможно составить адекватное представление о литературной ситуации последних десятилетий. Среди них: Андрей Бычков, Алина Витухновская, Михаил Елизаров, Анатолий Королев, Виктор Пелевин, Сергей Сибирцев, Владимир Сорокин.
Мамлеев – одно из ключевых имен для русской литературы второй половины XX века и хочется верить, что расходящиеся круги от камня, брошенного им в застоявшийся пруд русской словесности, не затухнут еще очень долго.
Литература
[1] Мамлеев Ю.В. Судьба бытия. За пределами индуизма и буддизма. М., 2006.
[2] Мамлеев Ю.В. Россия вечная. М., 2002.
[3] Место жительства: накопитель (Беседа Игоря Дудинского и Максима Семеляка). «Русская жизнь», № 5, 6 июля 2007.
[4] Титков А.Е. Песни нездешних тварей. «НГ Ex libris », № 46, 14 декабря 2006.
[5] Мамлеев Ю.В. Утопи мою голову: Сборник рассказов. М., 1990.
[6] Мамлеев Ю.В. Другой: Романы, рассказы. М., 2006.
[7] Человек как зверь и ангел между небом и землей (Беседа Юрия Мамлеева и Веры Цветковой). «НГ Ex libris », № 6, 12 февраля 2005.
[8] Мамлеев Ю.В. Русские походы в тонкий мир. М., 2009.
[9] Бойко М.Е. Россия и Рассея. «НГ Ex libris », № 11, 26 марта 2009.
[10] Мамлеев Ю.В. Бывает…: Рассказы, пьесы. М., 2008.
[11] Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. М., 1994.
[12] Проблемы типологии русского реализма. М., 1969.
[13] Космический бог Арад все еще смеется (Беседа Юрия Мамлеева и Михаила Бойко). «НГ Ex libris », № 37, 16 октября 2008.
[14] Мамлеев Ю.В. Мир и хохот: Роман и рассказы. М., 2008.
[15] Витухновская А.А. Страница в клетку. «Независимая газета», 14 октября 1995.
[16] Кто сегодня делает философию в России/ Сост. А.С. Нилогов. М., 2007.
[17] Кржижановский С.Д. Тринадцатая категория рассудка: Повести. Рассказы. М., 2006.
|